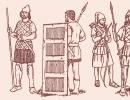Сторонники утилитаризма. Утилитаризм как этическое направление, утилитаризм Дж. Милля. Ценности и принципы утилитарного течения
А.А. Гусейнов
Термин "утилитаризм" принадлежит английскому философу Джону Стюарту Миллю (1806-1873). Так называлось его основное морально-философское произведение - "Утилитаризм" (1863), в котором он систематизировал и обосновал основные положения, развитые его учителем, Джереми (Иеремия) Бентамом (1748-1832) в трактате "Введение в основание нравственности и законодательства" (1780, опубл. 1789). Благодаря Миллю именно под этим названием он вошел в историю этики как особая разновидность моральной теории, в которой мораль основывается на принципе пользы. Утилитаризм (от лат. utilitas - польза) и означает теорию пользы, точку зрения, основанную на пользе.
Джереми Вентам. Ранний, или классический, утилитаризм предложил моральную теорию, в которой, так же как это было у французских материалистов (в частности, у Гельвеция), этика непосредственно опирается на антропологию. Так, по Бентаму, удовольствия и страдание суть основополагающие природные принципы человеческой жизни. Мораль, право и государство должны строиться в соответствии с этим природным началом. Для социальных институтов Бентам обобщенно обозначает это начало как принцип полезности, или величайшего (возможного) счастья или благоденствия. В развернутой форме он утверждает "величайшее счастье всех тех, о чьем интересе идет дело, истинной и должной целью человеческого действия", целью "во всех отношениях желательной", а также "целью человеческого действия во всех положениях, и особенно в положении должностного лица или собрания должностных лиц, пользующихся правительственной властью" . Формулировка принципа пользы не принадлежит Бентаму, и он никогда не приписывал ее себе. Она проходит через весь XVIII в., начиная с Ф. Хатчесона , и встречается у Ч. Беккария, Д. Пристли, К. Гельвеция и др. Однако именно Бентам придал ей принципиальное значение для построения теории морали. Бентам рассматривал ее не только как описательный и объяснительный принцип нравственности, но и как основополагающее этико-нормативное начало: принцип полезности задает главный критерий оценки действий.
1 Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства / Пер., предисл., примеч. Б.Г. Капустина. М., 1998. С. 9.
2 У Хатчесона эта формулировка имеет следующий вид: "То действие является наилучшим, которое обеспечивает самое большое счастье для наибольшего числа людей" (Хатчесон Ф. Исследование о происхождении наших идей красоты и добродетели // Ф. Хатчесон, Д. Юм, А. Смит. Эстетика. М., 1973. С. 174). Впоследствии многие комментаторы, в том числе Г. Сиджвик, а вслед за ним и Дж. Ролз, необоснованно рассматривали Хатчесона в качестве зачинателя утилитаризма. Идея этого принципа хотя и не в сформулированном, но развернутом виде встречается уже у Цицерона (Цицерон. Об обязанностях // Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М., 1993. С. 129-131).
Все люди, согласно Бентаму, стремятся к удовлетворению своих желаний. Счастье, или польза заключается в удовольствии, но при отсутствии страдания, т.е. счастье заключается в чистом, длительном и непрерывном удовольствии. И удовольствие, и польза понимались Бентамом предельно широко: наслаждение - это всякие наслаждения, в том числе чувственные, польза - всякая польза, в том числе выгода. Бентам безусловно "генерализировал" принцип полезности, полагая, что он обобщает все известные принципы морали. Приведя девять различных принципов, отстаивавшихся в моральной философии XVIII в., Бентам замечает: "Фразы различны, но принцип один и тот же" .
Соединением добродетели и пользы, а также, как это видно из развернутой формулировки принципа полезности, морали и политики Бентам серьезно покушался на устойчивые стереотипы морального сознания и этики, а именно на то, что добродетель противоположна пользе и что в политике и в морали основополагающие принципы различны. Однако Бентам придерживался представления о цельности ценностной сферы и рассматривал антитезу добродетели и пользы как результат смутного понимания как одного, так и другого. Как выразил это русский последователь Бентама Н.Г. Чернышевский (1828-1889), различия между пользой и добром носят лишь количественный характер: польза - превосходная степень удовольствия, добро - превосходная степень пользы . Поэтому для Бентама при правильном понимании блага нет существенной разницы между удовольствием, пользой, добродетелью и счастьем: это разные слова для обозначения одного и того же. Польза - обобщающее понятие, но
1 Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства // Указ. соч. С. 23.
2 См.: Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г. Избр. филос. соч. М., 1951. Т. 3. С. 247-249.
проверить, является ли определенное действие человека или мера правительства нравственной, или полезной, или доброй, мы реально можем, лишь исследуя в какой степени оно содействовало повышению количества и качества удовольствия людей. Поэтому, приведя реестр основных удовольствий и страданий человека и дав их классификацию, Бентам посвятил специальную главу возможности измерения удовольствий и страданий. Но если в этом он продолжал традиции английской моральной философии, то в анализе различных случаев моральной оценки на основе сопоставления мотива и результата (причем не только по критерию положительный - отрицательный, но и по их качественно-ценностному разнообразию) Бентаму принадлежит несомненный приоритет.
1 См.: Бентам И. Введение в основание нравственности и законодательства // Указ. соч. Гл. XI.
Джон Стюарт Милль придал утилитаризму статус концепции, не только выступив с опровержением многочисленных критиков учения Бентама, но и сформулировав позиции утилитаризма по отношению к априоризму и интуитивизму, в частности, как они были выражены Кантом и его английскими последователями.
В продолжение той линии в моральной философии, которая идет от Аристотеля и Эпикура, и в противовес кантианству - Милль выводит мораль из того, что составляет конечную (высшую) цель человека. Все люди стремятся к удовлетворению своих желаний, и счастье, или польза заключаются в чистом, длительном и непрерывном удовольствии. При этом утилитаризм - это теория, направленная против эгоизма, т.е. против такой точки зрения, согласно которой добро заключается в удовлетворении человеком личного интереса. Приемлемость или неприемлемость в каждом конкретном случае получаемого удовольствия или выгоды определяется тем, содействуют ли они достижению высшей цели, т.е. общему счастью. На этом же основываются определения (оценки) явлений и событий как хороших или дурных.
Соответственно, мораль определяется Миллем как "такие правила для руководства человеку в его поступках, через соблюдение которых доставляется всему человечеству существование наиболее свободное от страданий и наивозможно богатое наслаждениями" .
2 Миллъ Дж.С. Утилитарианизм. О свободе: 3-е изд. СПб., 1900. С. 107.
В полемике с критиками утилитаризма Милль проясняет принцип пользы. Польза действительно заключается в счастье. Но это не личное, а общее счастье: от личности требуется не стремиться к собственному счастью, а содействовать счастью других людей. Такого рода требования имеют смысл. Поскольку было бы наивным уповать на достижение всеобщего счастья и даже счастья значительной части людей, принцип пользы на самом деле предполагает (и предполагает в первую очередь) стремление человека к устранению и уменьшению несчастья. А это уже вполне реалистичная цель.
Провозглашая общее благо как высший принцип нравственности, Милль, как и его предшественник Бентам, подчеркивал, что человек должен, имея в виду высший нравственный принцип, стремиться обеспечить хотя бы свое частное благо. Вполне в духе протестантской этики тем самым предполагается, что человек должен исполнить в первую очередь свое профессиональное и социальное предназначение; но исполнить его с чистыми руками, по совести - добродетельно. Соответственно Милль решал и проблему добродетели: хотя добродетель может восприниматься индивидом как благо само по себе, она не является целью самой по себе, а есть лишь средство для ее достижения. "Человек не имеет ни малейшего побуждения, ни малейшего желания быть добродетельным: добродетель возбуждает его желание только потому, что составляет средство получить наслаждение и, в особенности, устранить страдание..." . Добродетель ценна не сама по себе, а как средство для достижения счастья или как часть счастья.
1 Милль Дж.С. Утилитарианизм. О свободе. Там же. С. 148.
Уровни нравственности. Главный моральный принцип утилитаризма конкретизируется в менее общих принципах второго уровня. И если брать моральные обязанности человека, то каждая из них соотнесена с второстепенными принципами. Эти принципы не менее значимы, чем главный принцип, и степень их обязательности такая же, как у главного принципа. Структура морали у Милля задается иерархией главного принципа (принципа пользы) и производных, или второстепенных принципов, которыми, собственно, и руководствуется человек в конкретных поступках. Таковы, например, принцип справедливости, правила "не вреди", "противодействуй несчастью", "соблюдай интересы ближних"; сюда же, можно отнести заповеди Декалога. На практике люди обходятся второстепенными принципами и нередко даже понятия не имеют о существовании главного принципа. Однако в случае конфликта между различными второстепенными принципами роль общего основания для его разрешения играет главный принцип.
Милль не объяснил механизма этого разрешения, однако, по логике Милля, моральный выбор и оценка должны осуществляться посредством определения предпочтительных с точки зрения принципа пользы удовольствий. Этот способ отвечает следующему правилу: "Если все или почти все, испытавшие два какие-либо удовольствия, отдают решительное предпочтение одному из них, и к этому предпочтению не примешиваются чувства какой-либо нравственной обязанности, то это удовольствие и будет более ценное, чем другие" . Иными словами, надежным основанием для качественной характеристики удовольствий, определения того, какое из них наиболее ценно, является общее мнение или, в случае разногласий, мнение большинства тех, кто испытал на себе разные удовольствия. Однако на вопрос о том, как происходит выявление этого доминирующего мнения, Милль не дает ответа.
Другим основанием нравственного выбора при принятии человеком решения и совершении поступка является содействие благу. На такой основе Милль с готовностью признает и принимает категорический императив Канта, - но с определенным добавлением: "мы должны руководиться в наших поступках таким правилом, которое могут признать все разумные существа с пользой для их коллективного интереса" . Милль так развивает кантовскую формулу с единственной целью - предотвратить возможные эгоистические интерпретации категорического императива, логически вполне возможные при одностороннем восприятии Канта. Однако вместе с тем Милль признает, что человеку редко приходится действовать именно в направлении общественной пользы: не у всех есть материальные возможности предпринимать крупномасштабные благотворительные проекты; не так часто возникает опасность для отечества, чтобы можно было индивидуальными усилиями оградить его благополучие. Так что в результате Милль, как и Бентам, считает, что люди как правило стремятся к личной пользе, и всеобщее благо слагается из стремлений различных людей реализовать свой частный интерес. Общее благо оказывается суммарным итогом частных благ.
1 Милль Дж.С. Утилитарианизм. О свободе. С. 101.
2 Там же. С. 173.
Требование соблюдения прав людей конкретизируется Миллем в учении о справедливости. Милль предлагает такое понятие справедливости, сущность которого задается понятием права. Справедливость, считает он, заключается в сохранении status quo (существующего положения вещей). Со справедливостью связаны требования - благодарности: всем отвечай добром на добро; возмездия (или наказания): всем воздавай по заслугам; и беспристрастности: отвечая как на добро, так и на зло, не взирай на лица. Все они также должны приниматься во внимание человеком при осуществлении выбора и совершении поступка.
Важная теоретическая дилемма, определившая развитие утилитаризма в XX в., касается оснований оценки поступков. Согласно классическому утилитаризму, как он был сформулирован Бентамом и развит Миллем, оценка поступка должна основываться на результатах действия, причем действия, взятого автономно, как отдельно осуществленного акта. Но в интерпретации Милля к этому не сводятся основания оценки: соблюдение прав других людей также допустимо рассматривать в качестве одного из результатов действия. Строго говоря, права человека выступают некоторым стандартом, выполнение которого вменяется каждому человеку в обязанность. Более того, каждое действие должно в конечном счете соотноситься с принципом пользы, и этот принцип - тоже определенный стандарт для оценки поступков. Таким образом, перед нами два типа оснований оценки: результат, к которому привел поступок, и стандарт, или правило, которому поступок должен соответствовать.
Развитие утилитаризма: от классического к современному. Развитие утилитаристской мысли в XX в. шло по нескольким направлениям. Во-первых, развернулась работа над точным определением понятия "полезность", которое по-разному понималось отцами-основателями течения. Бентамовский вариант понимания ключевого утилитаристского блага основывался на его гедонистическом прочтении: полезно все то, что способствует максимизации удовольствия. Недостатком такого подхода является его неразрывная связь с наивно-гедонистическим пониманием человеческого сознания и поведения. Гедонистическая теория мотивации упрощенно трактует истоки большинства человеческих поступков, сводя, к примеру, любую жертвенность к стремлению к наслаждению, а всякое самоограничение к проявлению себялюбия. Понятие "удовольствие" не является достаточно проясненным и для корректного теоретического использования и, особенно, для формализации в процессе утилитаристских расчетов. Поэтому в XX в. оно постепенно вытесняется из утилитаризма. Вместо удовольствия количественную меру полезности начинают определять через удовлетворение предпочтений, что устраняет необходимость обсуждать вопрос о том, каковы субъективно-психологические корреляты полезности.
Наряду с введением простых и операциональных определений полезности некоторые утилитаристы стремятся ввести механизм ограниченного рационального отбора предпочтений, позволяющий приписывать разный индекс полезности их удовлетворению. Степень жесткости и направленность работы этого механизма могут серьезным образом различаться. Первый вариант предполагает оценку случайных актуальных предпочтений на основе их сравнения с "хорошо информированными" предпочтениями . Второй вариант, следующий эвдемонистическому утилитаризму Дж.С. Милля, предполагает, что можно рационально обосновать предпочтение так называемых "высших" удовольствий. Джон Дж. Смарт (John J. Smart, 1920), один из современных адептов утилитаризма, приводит следующий набор аргументов: во-первых, эти удовольствия расширяют общую чувствительность и восприимчивость человека, во-вторых, они дают меньше негативных последствий, в-третьих, они имеют значительный вес, поскольку в утилитаристских калькуляциях следует учитывать не только удовлетворенность людей некоторым состоянием, но и их удовлетворенность перспективой удовлетворенности .
1 См.: Brandt Я The Theory of the Good and the Right. Oxford, 1979.
2 Smart J.J. An Outline of a System of Utilitarian Ethics // Smart J.J., Williams B.O. Utilitarianism: For and Against. Cambridge, 1973. P. 12-27.
Кроме проблемы определения полезности в современной утилитаристской мысли дискутируется вопрос о том, что именно должно проходить через тест на максимизацию полезности: действия и их последствия, нравственные нормы, мотивы, черты характера или общественные институты? Считается, что до Генри Сиджвика (Henry Sidgwick, 1838-1900) различие подходов, возникающих вследствие разных ответов на этот вопрос, отчетливо не осознавалось. Однако в настоящий момент границы между ними достаточно определенны, а различие активно обсуждается.
Первый подход получил название "прямого утилитаризма", в качестве синонима используется понятие "утилитаризм действий" (яркий представитель - Дж. Смарт). Критерием нравственной правильности определенного поступка в данном случае считается его способность приводить к таким последствиям, которые в наибольшей степени максимизируют совокупную или среднюю полезность.
Другой подход предполагается "косвенным утилитаризмом", представители которого по ряду причин отказываются проводить через тест на максимизацию полезности последствия конкретных действий. В качестве оснований для отказа могут выступать: а) сложность анализа последствий отдельных поступков в конкретных ситуациях, б) неспособность индивидов сохранять эмоциональное равновесие и беспристрастность в ходе подобного анализа, в) опасные последствия "утилитаризма действия" для координации деятельности между людьми, сохранения общественного порядка и солидарности. Так, отдельная кража при "беспристрастно благожелательном" распределении украденного может дать очень хорошие результаты в отношении совокупной удовлетворенности или благосостояния затронутых ею сторон. Однако признание условности запрета на воровство, вытекающее из одобрения отдельной кражи, ведет к катастрофическим последствиям в том же самом отношении.
Аргументация против "утилитаризма действия" порождает два варианта "косвенного утилитаризма", имеющих разную распространенность: "утилитаризм мотивов" и "утилитаризм правил". В последнем, более влиятельном, варианте утилитаристской моральной философии главным предметом поиска является наиболее удачный в отношении максимизации полезности этический кодекс. По Р. Брандту (1910-1997), он должен включать набор правил поведения, достаточно простой, чтобы его можно было легко изучить, и набор эффективных процедур для решения конфликтов между нормативными положениями .
Некоторые мыслители пытаются показать ложность дихотомии двух типов утилитаризма. Так, с точки зрения Ричарда Хэара (1919- 2002), их противостояние снимается с помощью разграничения между "критическим" и "интуитивным" уровнями морального мышления. Второй уровень - уровень непосредственных нравственных решений - должен полагаться на "готовые", созданные опытом поколений моральные принципы. Однако рациональная критика, снимающая конфликты нормативных предписаний, должна строиться по образцу "утилитаризма действий" .
Третьим направлением развития утилитаризма в XX в. является разработка способов суммирования полезности (о чем см. в § 3).
1 Brandt И The Theory of the Good and the Right. Oxford, 1979.
2 Hare R..M. Moral Thinking. Its Levels, Method, and Point. Oxford, 1981. P. 39-43.
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://books.atheism.ru
Репетиторство
Нужна помощь по изучению какой-либы темы?
Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку
с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.
Р.Г.Апресян, О.В.Артемьева, П.А.Гаджикурбанова, А.В.Прокофьев
Грант 2008-2009
Проект был направлен на подготовку нового издания трактата Дж.Ст.Милля «Утилитаризм» с полным научным аппаратом. Поэтому исследование этического утилитаризма Милля велось в главным образом в направлениях, заданных общефилософским, историко-философским контекстами и структурой данного трактата. Эти направления в самом общем виде можно обозначить следующим образом: а) утилитаризм в истории философии; б) утилитаристская моральная философия, которая включает понятие морали, принцип пользы и его обоснование; в) нормативные и д) прикладные аспекты утилитаризма Милля.
Что же касается подготовки нового издания, то начатая в первый год проекта работа по редактрированию русского перевода «Утилитаризма» издания 1900 г. постепенно трансформировалась в осуществление нового перевода, необходимость которого стала очевидной не только из-за чрезмерного количества вольностей переводчика старого издания, которые неизменно вели к затеменению и искажению смысла миллевских рассуждений, но и допущенных переводчиком множеством пропусков. Работа по переводу была в существенной своей части проделана (60%), но осталась незавершенной.
Утилитаризм в истории философии. Одна из задач исследования состояла в выяснении места классического утилитаризма в истории моральной философии. Для ее решения были проанализированы основные понятия классической утилитаристской моральной доктрины, представленной И.Бентамом и Дж.С.Миллем; обозначены точки соприкосновения и линии различия утилитаризма Милля и античного эвдемонизма.
Классический утилитаризм является разновидностью гедонистического эвдемонизма и продолжает традицию моральной философии, идущей от Аристотеля и Эпикура, в которой мораль выводится из высшей цели человеческой деятельности, отождествляемой со счастьем и удовольствием. При всем различии данных учений между ними можно обнаружить не только наличие типологического сходства, но и следы прямого влияния.
Родство эпикурейства с утилитаризмом было отмечено самим Миллем - он прямо называет Эпикура «утилитарианским писателем» и ставит его в один ряд с Бентамом. Разрабатывая одну из фундаментальных проблем утилитаристской этики - проблему различения количественных и качественных параметров принципа удовольствия и оснований предпочтения высших удовольствий низшим, Милль настаивает на том, что интеллектуальные и моральные удовольствия в большей мере способствуют нашему счастью, чем сами по себе физические наслаждения. Ссылаясь на опыт такого рода различений в эпикурейской моральной доктрине, Милль добавляет, что превосходство разумных наслаждений над телесными состоит не только в простом наборе таких «косвенных признаков», как их длительность, надежность и др., о чем говорили эпикурейцы и Бентам. С точки зрения Милля более высокие удовольствия обладают еще и неким «внутренним достоинством» - качественными характеристиками, позволяющими предпочесть их низшим удовольствиям. При этом стоит отметить, что проблематика различения качественных и количественных градаций удовольствий не является изобретением утилитаризма - своеобразная форма эпикурейского истолкования этого вопроса представлена в трактате Цицерона «О пределах добра и зла» I 11,38; II 3,10. Речь идет о различении разного рода удовольствий не по интенсивности их проявления, а по их вариативности.
В родословную утилитаризма по некоторым основаниям может быть включена и моральная концепция Аристотеля. В этическом учении Аристотеля целью моральной деятельности, ее вершиной и высшим проявлением является достижение счастья (eudaimonia). Многие характеристики нравственного бытия, данные Аристотелем, предвосхищают миллевские: моральное благо человека и его счастье совпадают - человеческое благо представляет собой деятельность души сообразно добродетели, счастье также состоит в деятельности согласно добродетели; такого рода деятельность представляет собой цель-в-себе (она избирается ради самой себя). В то же время, в отличие от утилитаристкой этики, в аристотелевской доктрине моральное добро выступает не только как форма человеческой деятельности (активности), но и как характеристика определенного состояния души морального субъекта. Еще одно отличие заключается в том, что моральная философия Аристотеля не говорит о достижении наслаждения (удовольствии) и устранении страдания как о цели моральной активности человека, то есть как о счастье. В перипатетической традиции счастье есть вид деятельности души, соответствующий ее природному назначению (ее добродетели в античном смысле слова - arete). Оно может только сопровождаться соответствующими удовольствиями, хотя последние и придают ему полноту и совершенство.
Важнейшим мотивом утилитаристской этики, отличающим ее от эвдемонистических концепций Аристотеля и Эпикура, является социальная значимость предлагаемых ею моральных императивов. Отталкиваясь от психологических и антропологических свойств человеческой природы, от присущего всем людям стремления к удовольствию и счастью, классический утилитаризм формулирует представление о социальном и политическом назначении моральной философии, в которой высшей целью нравственной деятельности выступает не личная польза субъекта моральной жизни (эгоистический интерес), а стремление к общему счастью.
Одним из устойчивых стереотипов в отношении утилитаристской моральной доктрины является тезис о том, что Бентама интересовал исключительно количественный аспект принципа удовольствия, в то время как Милль, в отличие от него, сделал попытку выделить качественные параметры понятия наслаждения. И хотя такое представление об утилитаризме разделяется целым рядом современных исследователей, оно все же кажется чересчур категоричным . Сравнительный анализ решения проблемы соотношения количественных и качественных характеристик удовольствий в концепциях Милля и Бентама показал, что пристальный интерес Милля к качественной стороне наслаждений и более фундаментальная, чем у Бентама, разработка этой моральной проблемы в его доктрине позволила ему синтезировать автономию объективных ценностей человеческой жизни негедонистического характера («духовное совершенство», самоуважение, красота, порядок и истина) с убежденностью в том, что только удовольствие может служить высшей целью человеческой деятельности.
Понятие морали. Во-первых, определяя мораль Милль, вслед за Бентамом, расширил ее пространство до сообщества чувствующих существ. Иными словами, мораль не ограничивается сообществом разумных существ, т.е. человечеством. Хотя этот тезис не получает развития в Миллем по существу, сам факт его выдвижения важен, особенно в перспективе дискуссий последней трети ХХ века вокруг дилеммы антропоцентризма и нонантропоцентризма в экологической этике. Во-вторых, Милль одним из первых, в истории философии, развивая юмовскую морально-философскую лексическую традицию, употребляет термин «мораль» для обозначения всей совокупности моральных явлений. В-третьих, в определении морали Милль (а) исходит из содержательно наполненного понимания ее смысла как целеполагания в отношении наибольшего возможного счастья, которое (б) реализуется благодаря правилам и предписаниям. Милль впервые предложил определение морали как системы правил и предписаний, и это понимание морали надолго закрепилось в новейшей философии.
К этому следует добавить, что нормативной регуляцией миллевская концепция морали не исчерпывалась. Система правил и предписаний связывалась Миллем с конечной (высшей) целью человека. Эта цель отражается в высшем моральном принципе, который также выступает своего рода регулятивом, «направляющим правилом человеческого поведения». Но само такое правило оказывалось возможным, потому что все люди стремятся к удовлетворению своих желаний, и счастье, или польза заключаются в удовольствии - чистом, длительном и непрерывном удовольствии. При этом утилитаризм - это теория, направленная против эгоизма, т.е. против такой точки зрения, согласно которой добро заключается в удо-влетворении человеком личного интереса. Приемлемость или неприемлемость в каждом конкретном случае получаемого удовольствия или выгоды определяется тем, содействуют ли они достижению высшей цели, т.е. общему счастью. На этом же основываются определения (оцен-ки) явлений и событий как хороших или дурных.
Милль придает большое значение общему принципу в морали, поскольку в ней, как в любых практических делах и в отличие от точных наук, господствует дедуктивный метод и частные положения выводятся из общих: оценки «хорошо» - «дурно» вытекают из знания добра и зла, а не наоборот. В задачу моральной философии входит прояснение и совершенствование моральных правил и убеждений.
Милль обоснованно полагал, что люди в конкретных ситуациях редко руководствуются главным нравственным принципом в своих действиях. Так же и в обосновании своих действий или при оценке других невозможно перескочить от частных ситуаций к верховному принципу. Главный моральный принцип конкретизируется в менее общих принципах второго уровня, или второстепенных принципах. И если брать моральные обязанности человека, то каждая из них соотнесена с второстепенными принципами. Таковы, например, принцип справедливости, правила «не вреди», «проти-водействуй несчастью», «соблюдай интересы ближних»; сюда же, по-ви-димому, Милль относит заповеди Декалога. Эти принципы не менее значимы для морали, чем основной принцип, а степень их обязательности ничуть не менее чем у основного принципа. Милль специально подчеркивает, что дело практически никогда не обстоит так, что люди при руководстве своими действиями обращаются прямо к главному принципу. Скорее, главный принцип поддерживает другие принципы, и они уже, в свою очередь, направляют поступки человека.
Сама эта двусоставная модель регуляции поведения восходит к учению Ф.Бэкона о разного уровня принципах мышления, на что Милль сам указывал в очерке об «Истории моральной науки» Р.Блэйки. В более позднем очерке об утилитаризме Бентама, как и в «Утилитаризме» Милль уточнял, что на практике люди обходятся второстепенными принципами и нередко даже понятия не имеют о существовании главного принципа. Однако в случае конфликта между различными второстепенными принципами возникает необходимость в более общем критерии для принятия решения, и тогда роль общего основания для его разрешения играет главный принцип. В таких случаях важно осознание главного принципа и правильное его понимание. Идея двусоставности морали более чем характерна для Милля. Как отмечает Р.Крисп, наряду с другими темами, такими как основание этики и этическое познание, обоснование утилитаризма, источники человеческого счастья, моральная мотивация и моральные санкции, тема основного и второстепенных принципов обсуждается Миллем во многих работах, начиная с ранних. В этической тематике Милля лишь тема справедливости получает развитие именно в «Утилитаризме»; в предыдущих же работах она фактически не затрагивалась.
Таким образом, структура морали, по Миллю, задается иерархией главного принципа (прин-ципа пользы) и производных, или второстепенных принципов, которыми, человек руководствуется в конкретных поступках.
Принцип пользы и его обоснование. С точки зрения Милля, без осознания и формулирования фундаментального морального принципа, или «верховного принципа нравственности», этика абсолютно бессмысленна, поскольку в отличие от других наук, частные истины в которых могут выявляться без обращения к первому принципу, определение того, что следует делать в конкретном случае без ссылки на фундаментальный моральный принцип, невозможно. Поэтому этика должна начинаться с формулирования этого принципа. А задача морального философа состоит в экспликации и обосновании данного принципа.
Вслед за своим непосредственным идейным предшественником и учителем Джереми Бентамом Милль в качестве фундаментального принципа морали рассматривает принцип пользы, или принцип наибольшего счастья наибольшего количества людей. Принцип пользы в утилитаризме не просто выражает смысл данной этической концепции, но и выступает в качестве нормативного принципа, на основании которого оцениваются поступки.
Несмотря на довольно сложные отношения с самим Бентамом и с его концепцией в разные периоды жизни, Милль никогда не сомневался в той ключевой мысли Бентама, что принцип пользы является «фундаментальной аксиомой» в моральной теории. Так же, как и Бентам, Милль определяет пользу, или счастье (для обоих эти понятия практически тождественны) через удовольствие и отсутствие страдания и отождествляет пользу, удовольствие и счастье. Существенное отличие позиций Бентама и Милля состояло в том, что для Милля чрезвычайно значимым было не столько количественное, сколько и качественное различение удовольствий. Критерий выбора между удовольствиями задает компетентный судья - человек, обладающий благородным характером, чувством собственного достоинства и имеющий способность к переживанию, как низменных, так и возвышенных удовольствий и не способный выбрать низкие удовольствия в ущерб возвышенным.
Концепция счастья, лежащая в основании принципа полезности, небезосновательно оценивалась исследователями утилитаризма Милля как внутренне противоречивая. С одной стороны, Милль вполне в духе Бентама настаивает на тождестве счастья и удовольствия. А с другой стороны, вводит множество конкретизаций и уточнений, которые оказываются разрушительными для исходного тезиса. В частности, из рассмотрения чувства достоинства как необходимого условия и одного из существенных компонентов счастья - настолько существенного, что оно может потребовать от человека отказа от низших удовольствий, а иногда и осознанного принятия на себя страданий, и все это не сделает его менее счастливым, - можно сделать вывод о том, что удовольствия составляют лишь часть счастья, и поэтому отождествление счастья и удовольствия некорректно.
Четвертая глава «Утилитаризма» Милля посвящена анализу того способа, посредством которого можно обосновать принцип пользы, и его особенностей.
Сложность обоснования утилитаризма в концепции Милля определялась несколькими обстоятельствами. С одной стороны, признанием необходимости доказательства первого принципа, с другой - эмпирической и индуктивистской установкой в отношении любого рода доказательства, а с третьей - убежденностью Милля в том, что вопросы о конечных целях не подлежат доказательству, если под доказательством понимать последовательный вывод от посылок к заключению. Для обоснования конечного морального принципа Милль считает возможным использовать доказательство в более широком смысле слова. Его можно описать как убеждение разумного человека посредством некоторых рациональных доводов, принимая которые он мог бы принять утилитаризм как достоверную этическую теорию, и как основания для принятия собственных моральных решений в жизненной практике. Разъясняя подход Милля к своеобразию обоснования принципа пользы, Роджер Крисп сравнивает его с тем способом, каким можно убедить находящегося в комнате человека в том, что за окном идет дождь, а именно - просто подвести к окну и дать ему возможность самому убедиться в том, что дождь действительно идет. С точки зрения эмпирика, данный способ убеждения если не тождественен доказательству, то вполне ему эквивалентен.
Для убеждения разумного человека в приемлемости для него принципа пользы Милль апеллирует к способности его желания. Если первые принципы знания - факты, могут быть установлены при непосредственном участии чувств и внутреннего сознания, то в случае первого морального принципа такой способностью является желание. И тогда обоснование принципа пользы должно состоять в демонстрации того, что люди в действительности желают счастья как своего собственного, так и общего и ничто другое предметом желания не является. Непонимание специфики характера обоснования в морали стало основанием для критики позиции Милля со стороны Дж.Э.Мура который воспринял миллевское обоснование принципа пользы именно в качестве доказательства в строгом смысле слова и обвинил Милля в простодушном совершении натуралистической ошибки.
Нормативные аспекты утилитаризма Милля. Концепция справедливости. В пятой главе трактата «Утилитаризм» Милль обращается к одной из ключевых для утилитаристской этики проблем - проблеме объяснения того неоспоримого факта, что в живом нравственном опыте центральное место занимает понятие «справедливость», которое не только отграничивается от общей (общественной) пользы, но и ограничивает возможности суммирования интересов разных людей. Обсуждая эту проблему, утилитарист может занимать следующие позиции. Во-первых, он может отрицать моральную значимость понятия «справедливость». Во-вторых, он может использовать понятие «справедливость» в качестве синонима максимальной суммированной пользы. В-третьих, он может объявить видимое противостояние справедливости и пользы результатом напряжения, возникающего между различными видами полезности. Первые две позиции резко противопоставлены преобладающему нравственному чувству. Вторая - нацелена на установление компромисса с ним, хотя и настаивает на его частичной коррекции.
Милль встает на последнюю из этих позиций. Для ее обоснования он принимает на вооружение двухчастную аргументацию. С одной стороны, он пытается показать, что обыденное понимание справедливости не является достаточно определенным для того, чтобы стать основой этической теории, которая способна конкурировать с утилитаризмом. С другой стороны, он пытается показать, что идея пользы и принципы справедливости выступают в качестве ценностного основания и нормативно-практических выводов из него. Эти аргументационные стратегии в значительной мере противоречат друг другу, что ведет к рассогласованности некоторых фрагментов трактата.
Первоначально Милль пытается показать, что не существует такого свойства, которое присутствовало бы во всех поступках (или положениях дел), вызывающих негативную реакцию со стороны обладателей чувства справедливости. Он делает вывод, что эти случаи не связывает между собой единая «умственная нить» . А затем вводит утверждение о том, что справедливость характеризуется вполне доступными для артикуляции свойствами, среди которых основное - присутствие моральных прав, принадлежащих конкретному носителю и требующих безусловного уважения всех окружающих. Если в отношении какой-то нравственной нормы невозможно выявить конкретных лиц, права которых нарушаются ее неисполнением, то перед нами норма, которая относится к сфере морали, но не к сфере справедливости. Таковы предписания щедрости, великодушия, благотворительности . Определившись с «умственной нитью», Милль предлагает свое понимание оснований идеи справедливости, которые являются утилитаристскими: в ее основе лежит такой общезначимый и ни с чем не сравнимый вид пользы, как обеспечение индивидуальной безопасности .
Стремление создать утилитаристскую теорию справедливости поставило Милля перед лицом нескольких проблем , которые не только не решены, но даже не отрефлексированы в «Утилитаризме». Во-первых, он оказался перед лицом необходимости давать ответ на вопрос о том, как пользе удается быть и основанием справедливости, и внешним по отношению к ней критерием. На вторую функцию пользы Милль явственно указывает, обсуждая ограничения законодательного оформления норм морали и случаи правомерного нарушения обязанностей справедливости. Во-вторых, он ввел такое понимание роли правил в морали, которое прямо противоречит теории, доминирующей в первых главах трактата. Там правила всего лишь заменяют громоздкий утилитаристский расчет по каждому из типичных случаев. Их применение - вопрос удобства и выбора . Однако в пятой главе моральные правила, в особенности, нормы справедливости, выступают основным критерием для выяснения оправданности действия. В рамках такого подхода утилитаристское рассуждение допустимо только на уровне обоснования норм, но не на уровне обоснования конкретных поступков.
Однако пятая глава «Утилитаризма» интересна не только тем, что она дает представление о миллевском решении проблемы «справедливость и польза». По ее содержанию можно установить, каким образом представления Милля о справедливости связаны с процессом изменения исходной дефиниции этого понятия, развернувшимся на рубеже XVIII-XIX столетий. Суть этого процесса состояла в смене статуса распределительной справедливости по отношению к иным ее видам: обменивающей и карательной. Для ранних новоевропейских философов, начиная с Г.Гроция и заканчивая А.Смитом, справедливость была сопряжена с правилами, которые гарантируют личную безопасность, собственность и соблюдение договоров, но не включала в себя правил распределения доходов и богатств. На смену этой парадигме пришло такое понимание справедливости, в рамках которого реализация распределительных целей играет не меньшую роль, чем обеспечение физической неприкосновенности личности, и заметно большую, чем сохранение устойчивой системы собственности и возможностей свободного обмена. Реализация правил справедливого распределения рассматривалась при этом как ключевая обязанность любого общества как коллективного целого. В пятой главе «Утилитаризма» Милль неоднократно демонстрирует свою готовность обсуждать распределение материальных ресурсов в категориях справедливости и несправедливости. Но, что еще более важно, он оформляет нормативную основу всех сфер и проявлений справедливости именно в виде распределительного принципа. Прямым выражением утилитаристского идеала в социальной практике Милль считает «высший… критерий социальной и распределительной справедливости», состоящий в равном отношении общества ко всем, кто имеет перед ним равные заслуги .
Прикладные аспекты утилитаризма Милля. Прикладная проблематика была исследована на материале обсуждения Миллем проблемы смертной казни. Решение Миллем данной проблемы обусловлено его пониманием публичной функции наказания как, во-первых, справедливого воздаяния ценой меньшего страдания и, во-вторых, как средство сдерживания преступности и способствование обеспечению общественной безопасности.
Результаты проекта отображены в публикациях:
* Артемьева О.В. Предисловие к публикации: Милль Дж.Ст. Речь в защиту смертной казни // Этическая мысль. Вып. 9 / под ред. А.А.Гусейнова. М.: ИФ РАН, 2009. С. 177-182.
* Милль Дж. Ст. Речь в защиту смертной казни // Этическая мысль. Вып. 9 / под ред. А.А.Гусейнова. М.: ИФ РАН, 2009. С. 183-192 (перевод О.В.Артемьевой).
* Гаджикурбанова П.А. Summum bonum в классическом утилитаризме // Этическая мысль. Вып. 10 / под ред. А.А.Гусейнова М.: ИФ РАН. С. 114-130.
* Прокофьев А.В. Идея справедливости в «Утилитаризме» Дж.С.Милля // Философия и культура. 2008, № 10. С. 118-133, № 11, С. 137-144.
* Прокофьев А.В. Трактат «Утилитаризм» Дж.С.Милля и возникновение идеи социальной справедливости // Проблемы этики: Философско-этический альманах: Вып. 2. М.: Современные тетради, 2009. С. 5-21.
Убедительные свидетельства усилий самого И. Бентама дифференцировать и даже систематизировать различные, в том числе и качественные измерения удовольствий, построить их своеобразную типологию со ссылкой на основной труд Бентама приводятся в книге: Frederick Rosen . Classical Utilitarianism from Hume to Mill. London, 2003. P. 56-57, 176. Противоположная позиция представлена, например, в работе: Martha C . Nussbaum . Mill between Aristotle & Bentham // Daedalus,March 22, 2004.
УТИЛИТАРИЗМ
УТИЛИТАРИЗМ
Философский энциклопедический словарь . 2010 .
УТИЛИТАРИЗМ
(от лат. utilitas – польза, выгода) – филос. и идеологич. принцип, согласно к-рому всякий природный и культурно-историч. рассматривается не в его собственной конкретности, а лишь как для внешней цели – полезного эффекта. Ст. зр. У., всякий , всякое богатство определяется через ту пользу, к-рую может из него извлечь потребление (индивидуальное или производительное) или нек-рый институт, возведенный в самоцель. Для У. все только служебно и есть лишь резервуар "вещей", более или менее пригодных для утилизации. Бурж. рассматривает предметный мир культуры "...под углом зрения какого-нибудь внешнего отношения полезности..." (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 594). Это сознание определяется овеществлением и соответствующей ему системой отношений полезности. Отношение полезности есть такое реальное, связанное с отчуждением , при к-ром предметные воплощения человеческих способностей функционируют преим. без их распредмечивания (см. Опредмечивание и распредмечивание), как готовые полезные средства, безотносительно к создавшей их творч. деятельности, к ее характеру, генезису, смыслу и т.п. Напр., в науке мышления обретает самостоят. форму "готового знания", соответствующую его возможной утилизации. Наиболее развитое отношение полезности получает в классовой эксплуатации.
Гегель видел в "теории полезности" итог идеологии Просвещения: "...в полезности чистое здравомыслие завершает свою реализацию... Так же, как для человека все полезно, он и полезен, и... его определение – сделаться общеполезным и общепригодным членом человеческого отряда... Где он находится, там его надлежащее ; он извлекает пользу из других, а другие извлекают пользу из него... Для человека как вещи, с о з н а ю щ е й это отношение, в этом обнаруживается его и его положение..." (Соч., т. 4, М., 1959, с. 312, 302). Маркс исследовал за извращающим творч. человеческой культуры "словесным маскарадом" теории полезности "действительный маскарад": то реальное извращение, когда "для индивида его отношения имеют значение не сами по себе, не как , а как маски некоей действительной третьей цели и отношения", к-рое подставляется на место конкретного содержания этих отношений (MEGA, Abt. 1, Bd 5, В., 1932, S. 388). В классовом обществе собственно материального произ-ва над культурой навязывает ей мерило полезности, делает полезность способом включения индивида в обществ. в качестве средства, низводя его до уровня экономич. персонажа. В системе разделения деятельности наделенные самостоятельностью и иск-во преобразуются по образу и подобию собственно материального произ-ва. Бурж. произ-во создает "...систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности; даже наука, точно так же как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности, и нет ничего такого, что вне этого круга общественного производства и обмена выступало бы как с а м о п о себе более высокое, как правомерное само по себе" (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 386–87).
При отношении полезности исполнители утилизуют предметные формы культуры и тем самым друг друга. Утилизация создает иллюзию связи там, где на деле продолжает углубляться разрыв между развиваемой в отчужденной форме культурой и ничтожными по сравнению с ней индивидуальными способностями "частичных работников", поведения к-рых становится все более алгоритмизированной и враждебной творчеству. Критикуя мелкобуржуазную эгалитаристскую концепцию "грубого", "казарменного коммунизма", Маркс вскрыл реакционность стремления ликвидировать всю ту культуру, к-рая не может утилитарно пригодной и доступной каждому обывателю, следовательно, ликвидировать интеллигенцию, заменив ее чиновниками. Отрицая частную , эта лишь последовательнее проводит личности частной собственностью, стремясь универсализовать отношение полезности, сделать всех в равной степени взаимно утилизующими друг друга, т.е. учредить царство коллективизированного У. Категория эксплуатируемого пролетария "...не отменяется, а распространяется на всех людей" (Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., с. 586). Противоречие между возрастающей потребностью в творчестве, в способных к нему личностях и отношением утилизации разрешается только на пути коммунистич. преобразования мира, в к-ром человек шаг за шагом сбрасывает с себя все роли агента внутри собственно материального произ-ва. Преодолевая тем самым господство "внешней целесообразности", коммунистич. человек устраняет саму почву У. и утверждает развитие своих сущностных сил как самоцель.
Г. Батищев. Москва.
Утилитаризм в этике – теория морали, получившая широкое распространение в Англии 19 в. и отразившая умонастроения нек-рых слоев англ. либеральной буржуазии. Бентам – основоположник У. – делал основой морали полезность, к-рую он отождествлял с наслаждением. Исходя из натуралистич. и внеисторич. понимания природы человека, Бентам видел конечное назначение морали в том, чтобы способствовать естеств. стремлению людей испытывать наслаждение и избегать страданий. В содействии "наибольшего счастья" (удовольствия) для "наибольшего числа людей" и состоит, согласно Бентаму, смысл этич. норм и принципов. Рассматривая общее благоденствие как сумму благ частных лиц, Бентам предполагает благо одного лица равнозначным благу всякого другого. По словам Маркса, Бентам "с самой наивной тупостью... отождествляет современного филистера – и притом, в частности, английского филистера – с нормальным человеком вообще. Все, что полезно этой разновидности нормального человека и его миру, принимается за полезное само по себе" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 623, прим.). Способ мышления буржуа отразился в этике Бентама и в том, что он сводит проблему морального выбора к простой калькуляции выгод и потерь, наслаждений и страданий, к-рые могут повлечь за собой различные альтернативы действий.
Внутр. противоречия этич. теории У. выявились у Дж. С. Милля, к-рый попытался сгладить эгоистич. моменты этики У. и пришел в итоге к эклектич. сочетанию различных принципов. Так, принцип личного счастья (удовольствия) Милль дополнил требованием согласования различных интересов, ввел качественное разграничение "низших" (чувственных) и "высших" (интеллектуальных) удовольствий, которым следует отдавать предпочтение, признал добродетели в ней самой, а не в пользе, приносимой ею, и т.п.
Натуралистич. морали в У. было подвергнуто критике в совр. бурж. этике и прежде всего Дж. Муром, к-рый, однако, сам использовал утилитарный оценки поступков по их последствиям (т.н. идеальный У.). Другие бурж. теоретики, переосмысливая Бентама и Милля, считают, что принцип полезности может быть основанием лишь общих моральных норм, но не каждого отд. действия; поступок должен выбираться в соответствии с существующей общей нормой ("ограниченный У." Дж. О. Эрмсона, Дж. Д. Маббота и др. в "крайнему У. " приверженцев классич. У. – Дж. Смарта, Г. Дж. Мак-Клоски). Дискуссия между теми и другими, прошедшая в 1950-х гг., имела в основном формально-методологич. характер, и в ней даже не поднимался о социальных причинах того, почему ("полезность") общей моральной нормы может вступать в с целесообразностью отд. поступка.
Лит.: Милль Д. С., Утилатарианизм, пер. с англ., 3 изд., СПБ, 1900; Moore G. Ε., Principia ethica, Camb., 1903, p. 16–19; Urmsоn J. O., The interpretation of the moral philosophy of J. S. Mills, "The Philosophical Quarterly", 1953, v. 3, No 10; Mabbott J. D., Interpretations of Mill"s utilitarianism, там же, 1956, v. 6, No 23; Smart J. J. C., Extreme and restricted utilitarianism, там же. No 25; Mс Сlоskey H. J., An examination of restricted utilitarianism, "Philosophical Review", 1957, v. 66, No 4.
О. Дробницкий. Москва.
Философская Энциклопедия. В 5-х т. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Ф. В. Константинова . 1960-1970 .
Синонимы :
Смотреть что такое "УТИЛИТАРИЗМ" в других словарях:
- (utilitarianism) Наиболее известное определение утилитаризма основано на убеждении в том, что наилучшим действием является то, которое приносит наибольшее счастье наибольшему числу людей. Обычно подобная трактовка ассоциируется с именем Бентама… … Политология. Словарь.
Утилитаризм - Утилитаризм ♦ Utilitarisme Всякое учение, основывающее свои оценочные суждения на понятии пользы. Значит, утилитаризм – то же самое, что эгоизм? Нет, не значит. Большинство утилитаристов (в частности, Бентам (***) и Джон Стюарт Милль (***))… … Философский словарь Спонвиля
- (фр. utilitarisme, от лат. utilis полезный). 1) термин, введенный Д. С. Миллем главным представителем утилитарной морали, ставящей своим идеалом возможно большую пользу (счастье), возможно большего числа людей. Принципы утилитаризма были… … Словарь иностранных слов русского языка
Утилитаризм - (лат.utilitas пайда) – моральдық философиядағы бағыт. Оның негізін қалаушы ағылшындық философ, экономист, заңгер – теоретик, атақты Адам Смиттің (экономист) шәкірті И.Бентам болды («Введение в принципы нравственности и законодательства»… … Философиялық терминдердің сөздігі
от лат.: utilitas - польза, выгода), принцип (фил. направление) оценки всех явлений только с точки зрения их полезности, возможности служить средством для достижения какой-л. цели; основанное И. Бентамом позитивистское направление в этике, считающее пользу основой нравственности и критерием человеческих поступков.
Отличное определение
Неполное определение ↓
УТИЛИТАРИЗМ
от лат. utilitas - польза) - направление в моральной философии, основанное Дж. Бентамомв трактате «Введение в принципы нравственности и законодательства» (1780) и развитое в его классическом виде и именно под названием «У». Дж.С. Милаем («Утилитаризм», 1863). Милль сформулировал основные аргументы У. против многочисленных возражений критиков; главный пафос миллевской полемики был направлен против априоризма и интуитивизма, а персонально - против И. Канта и его английских последователей. Согласно У., в основе морали лежит общее благо (как счастье большинства людей), которое Бентам называл общей пользой, безусловно отличая ее от корысти, или личной выгоды. Под принципом пользы он понимал принцип выбора действий и оценки поступков, который ориентирует на максимально большее благо. Если действие касается интересов сообщества, то речь идет о пользе (счастье) сообщества, если - интересов индивида, то речь идет о пользе индивида. Формула общего блага - «наибольшее счастье наибольшего числа людей» - встречалась и раньше, у Ф. Хатчесона, Ч. Бекаария, К. Гельвеция и др., однако именно Бентам придал ей принципиальное значение для построения теории морали.
Согласно У., все люди стремятся к удовлетворению своих желаний. Счастье или польза заключается в удовольствии, но при отсутствии страдания, т.е. счастье заключается в чистом, длительном и непрерывном удовольствии. И удовольствие, и польза принимаются в У. в широком смысле: под наслаждением понимаются всякие наслаждения, в т.ч. чувственные, под пользой понимается всякая польза, в т.ч. выгода. У. - это теория, направленная против эгоизма. Приемлемость в каждом конкретном случае получаемого удовольствия или выгоды определяется тем, содействуют ли они достижению высшей цели. На этом же основываются определения (оценки) явлений и событий как хороших или дурных. При этом человек, по У, должен, имея в виду высший нравственный принцип, стремиться обеспечить хотя бы свое частное благо; в духе "ротестантской этики тем самым предполагалось, что человек должен исполнить в первую очередь свое профессиональное и социальное предназначение, но исполнить его с чистыми руками, по совести - добродетельно.
В У. - в продолжение той линии в моральной философии, которая идет от Аристотеля и Эпикура и в противовес кантианству, - мораль выводится из того, что составляет конечную (высшую) цель. Мораль определяется Миллем как «такие правила для руководства человеку в его поступках, через соблюдение которых доставляется всему человечеству существование, наиболее свободное от страданий и наивозможно богатое наслаждениями». Три фактора, по Миллю, препятствуют осуществлению принципа пользы или человеческому счастью: себялюбие людей, недостаток умственного развития и дурные государственные законы. Тем самым утверждалась недопустимость смешения целей и ценностей.
Главный моральный принцип конкретизируется в менее общих принципах второго уровня. И если брать моральные обязанности человека, то каждая из них соотнесена с второстепенными принципами. Эти принципы не менее значимы, чем главный принцип, и степень их обязательности такая же, как у главного принципа. Т.о., структура морали в У. Милля задается иерархией главного принципа (принципа пользы) и производных, или второстепенных, принципов, которыми, собственно, и руководствуется человек в конкретных поступках. Таковы, напр., принцип справедливости, правила «не вреди», «противодействуй несчастью», «соблюдай интересы ближних»; сюда же можно отнести заповеди Декалога. На практике люди обходятся второстепенными принципами и нередко даже понятия не имеют о существовании главного принципа. Однако в случае конфликта между различными второстепенными принципами роль общего основания для его разрешения играет главный принцип.
В связи с этим обнаруживается важная теоретическая дилемма, суть которой касается оснований оценки поступков. Согласно классическому У, оценка поступка должна основываться на результатах действия, взятого автономно, как отдельно осуществленного акта. Однако в интерпретации Милля основания оценки к этому не сводятся: он рассматривал соблюдение прав др. людей в качестве одного из результатов действия. Одновременно права человека выступают неким стандартом, выполнение которого вменяется каждому в обязанность. При том что каждое действие должно в конечном счете соотноситься с принципом пользы, и этот принцип - тоже определенный стандарт для оценки поступков - можно, т.о., выделить в У. уже два типа оснований оценки: результат, к которому привел поступок, и стандарт, или правило, которому поступок должен соответствовать.
Это различие не было концептуально осмыслено Миллем, но оно определило развитие У. в 20 в., отразившись в двух течениях У: У. действия (actutilitarian-ism) и У. правила (rule-utilitarianism). Согласно У. действия, который продолжает традицию классического У, каждый человек в условиях выбора должен руководствоваться стремлением получения наибольшего счастья для наибольшего числа людей, вовлеченных в ситуацию поступка (П. Сингер). Как указывают критики У. действия, такое основание выбора может противоречить взятым ранее обязательствам или принятым долгосрочным жизненным планам. Согласно У. правила, при выборе поступка следует определить, какой набор конкретных правил, будучи принятым в обществе, обеспечит максимизацию пользы, а затем руководствоваться этими правилами (Р. Брандт). Второе направление является доминирующей формой современного У.
УТИЛИТАРИЗМ
от лат. utilitas – польза, выгода) – филос. и идеологич. принцип, согласно к-рому всякий природный и культурно-историч. феномен рассматривается не в его собственной конкретности, а лишь как средство для внешней цели – полезного эффекта. Ст. зр. У., всякий предмет, всякое богатство определяется через ту пользу, к-рую может из него извлечь потребление (индивидуальное или производительное) или нек-рый социальный институт, возведенный в самоцель. Для У. все только служебно и мир есть лишь резервуар "вещей", более или менее пригодных для утилизации. Бурж. сознание рассматривает предметный мир культуры "...под углом зрения какого-нибудь внешнего отношения полезности..." (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 594). Это сознание определяется овеществлением и соответствующей ему системой отношений полезности. Отношение полезности есть такое реальное, связанное с отчуждением отношение, при к-ром предметные воплощения человеческих способностей функционируют преим. без их распредмечивания (см. Опредмечивание и распредмечивание), как готовые полезные средства, безотносительно к создавшей их творч. деятельности, к ее характеру, генезису, смыслу и т.п. Напр., в науке результат мышления обретает самостоят. форму "готового знания", соответствующую его возможной утилизации. Наиболее развитое выражение отношение полезности получает в классовой эксплуатации. Гегель видел в "теории полезности" итог идеологии Просвещения: "...в полезности чистое здравомыслие завершает свою реализацию... Так же, как для человека все полезно, он и сам полезен, и... его определение – сделаться общеполезным и общепригодным членом человеческого отряда... Где он находится, там его надлежащее место; он извлекает пользу из других, а другие извлекают пользу из него... Для человека как вещи, с о з н а ю щ е й это отношение, в этом обнаруживается его сущность и его положение..." (Соч., т. 4, М., 1959, с. 312, 302). Маркс исследовал за извращающим творч. характер человеческой культуры "словесным маскарадом" теории полезности "действительный маскарад": то реальное извращение, когда "для индивида его отношения имеют значение не сами по себе, не как самодеятельность, а как маски некоей действительной третьей цели и отношения", к-рое подставляется на место конкретного содержания этих отношений (MEGA, Abt. 1, Bd 5, В., 1932, S. 388). В классовом обществе господство собственно материального произ-ва над культурой навязывает ей мерило полезности, делает полезность способом включения индивида в обществ. связь в качестве средства, низводя его до уровня экономич. персонажа. В системе разделения деятельности наделенные самостоятельностью наука и иск-во преобразуются по образу и подобию собственно материального произ-ва. Бурж. произ-во создает "...систему всеобщей эксплуатации природных и человеческих свойств, систему всеобщей полезности; даже наука, точно так же как и все физические и духовные свойства человека, выступает лишь в качестве носителя этой системы всеобщей полезности, и нет ничего такого, что вне этого круга общественного производства и обмена выступало бы как нечто с а м о п о себе более высокое, как правомерное само по себе" (Маркс К., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 46, ч. 1, с. 386–87). При отношении полезности исполнители утилизуют предметные формы культуры и тем самым друг друга. Утилизация создает иллюзию связи там, где на деле продолжает углубляться разрыв между развиваемой в отчужденной форме культурой и ничтожными по сравнению с ней индивидуальными способностями "частичных работников", форма поведения к-рых становится все более алгоритмизированной и враждебной творчеству. Критикуя мелкобуржуазную эгалитаристскую концепцию "грубого", "казарменного коммунизма", Маркс вскрыл реакционность стремления ликвидировать всю ту культуру, к-рая не может стать утилитарно пригодной и доступной каждому обывателю, следовательно, ликвидировать интеллигенцию, заменив ее чиновниками. Отрицая частную собственность, эта концепция лишь последовательнее проводит отрицание личности частной собственностью, стремясь универсализовать отношение полезности, сделать всех в равной степени взаимно утилизующими друг друга, т.е. учредить царство коллективизированного У. Категория эксплуатируемого пролетария "...не отменяется, а распространяется на всех людей" (Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., с. 586). Противоречие между возрастающей потребностью в творчестве, в способных к нему личностях и отношением утилизации разрешается только на пути коммунистич. преобразования мира, в к-ром человек шаг за шагом сбрасывает с себя все роли агента внутри собственно материального произ-ва. Преодолевая тем самым господство "внешней целесообразности", коммунистич. человек устраняет саму почву У. и утверждает развитие своих сущностных сил как самоцель. Относительно извращения марксизма в духе У. см. Экономический материализм. Г. Батищев. Москва. Утилитаризм в этике – теория морали, получившая широкое распространение в Англии 19 в. и отразившая умонастроения нек-рых слоев англ. либеральной буржуазии. Бентам – основоположник У. – делал основой морали полезность, к-рую он отождествлял с наслаждением. Исходя из натуралистич. и внеисторич. понимания природы человека, Бентам видел конечное назначение морали в том, чтобы способствовать естеств. стремлению людей испытывать наслаждение и избегать страданий. В содействии "наибольшего счастья" (удовольствия) для "наибольшего числа людей" и состоит, согласно Бентаму, смысл этич. норм и принципов. Рассматривая общее благоденствие как сумму благ частных лиц, Бентам предполагает благо одного лица равнозначным благу всякого другого. По словам Маркса, Бентам "с самой наивной тупостью... отождествляет современного филистера – и притом, в частности, английского филистера – с нормальным человеком вообще. Все, что полезно этой разновидности нормального человека и его миру, принимается за полезное само по себе" (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23, с. 623, прим.). Способ мышления буржуа отразился в этике Бентама и в том, что он сводит проблему морального выбора к простой калькуляции выгод и потерь, наслаждений и страданий, к-рые могут повлечь за собой различные альтернативы действий. Внутр. противоречия этич. теории У. выявились у Дж. С. Милля, к-рый попытался сгладить эгоистич. моменты этики У. и пришел в итоге к эклектич. сочетанию различных принципов. Так, принцип личного счастья (удовольствия) Милль дополнил требованием согласования различных интересов, ввел качественное разграничение "низших" (чувственных) и "высших" (интеллектуальных) удовольствий, которым следует отдавать предпочтение, признал ценность добродетели в ней самой, а не в пользе, приносимой ею, и т.п. Натуралистич. обоснование морали в У. было подвергнуто критике в совр. бурж. этике и прежде всего Дж. Муром, к-рый, однако, сам использовал утилитарный критерий оценки поступков по их последствиям (т.н. идеальный У.). Другие бурж. теоретики, переосмысливая Бентама и Милля, считают, что принцип полезности может быть основанием лишь общих моральных норм, но не каждого отд. действия; поступок должен выбираться в соответствии с существующей общей нормой ("ограниченный У." Дж. О. Эрмсона, Дж. Д. Маббота и др. в противоположность "крайнему У. " приверженцев классич. У. – Дж. Смарта, Г. Дж. Мак-Клоски). Дискуссия между теми и другими, прошедшая в 1950-х гг., имела в основном формально-методологич. характер, и в ней даже не поднимался вопрос о социальных причинах того, почему целесообразность ("полезность") общей моральной нормы может вступать в противоречие с целесообразностью отд. поступка. Лит.: Милль Д. С., Утилатарианизм, пер. с англ., 3 изд., СПБ, 1900; Moore G. ?., Principia ethica, Camb., 1903, p. 16–19; Urmsоn J. O., The interpretation of the moral philosophy of J. S. Mills, "The Philosophical Quarterly", 1953, v. 3, No 10; Mabbott J. D., Interpretations of Mill´s utilitarianism, там же, 1956, v. 6, No 23; Smart J. J. C., Extreme and restricted utilitarianism, там же. No 25; Mс Сlоskey H. J., An examination of restricted utilitarianism, "Philosophical Review", 1957, v. 66, No 4. О. Дробницкий. Москва.
Отличное определение
Неполное определение ↓
Важным основанием для различения этичес-ких теории является то, какая сторона действия или поступка оказывается в центре внимания при его оценке. По этому осно-ванию выделяют два типа теорий - утилитаристские и деонтологические.
Утилитаризм (лат.. utilitas - польза, выгода) буржуазное индивидуалистическое направление в этике признающее пользу или выгоду критерием нравственности.
Родоначальниками утилитаризма принято считать британских (философов Д. Юма (1711-1776), И. Бентама (1748-1832) и Дж. С. Милля (1806-1873), хотя многие воззрения, связываемые с этой теорией, сложились намного раньше.
Принципиальным для утилитаристских теорий явля-ется то, что все они так или иначе исходят в моральной оценке действия из его результата, пользы (или вреда), то есть послед-ствий, к которым оно привело. Иногда говорится и о том, что определяющим - с точки зрения моральной оценки - элемен-том поступка или действия является его цель. Поэтому утили-таристские теории называют также телеологическими (от грече-ского tе1оs - цель). При этом все, что относится к замыслам, на-мерениям, мотивам действующего лица, к тому, насколько оно руководствовалось моральными соображениями при выборе, как цели, так и средств для ее достижения, остается на втором плане либо вовсе не принимается во внимание.
В такой позиции есть определенные резоны и основания: в соответствии с установками философии позитивизма, с кото-рой, надо заметить, у утилитаристской этики есть глубокое род-ство, имеет смысл обсуждать только то, что доступно для на-блюдения, то есть то, что можно увидеть и зафиксировать со стороны - "твердые факты". К числу таковых и относятся по-следствия наших действий, которые отчетливо видны окружа-ющим. Что же касается побуждений, мотивов и тому подобных материй, то о них внешний наблюдатель может знать только со слов того, кто совершил данный поступок. Более того, и сам этот человек, будь он даже вполне искренним, может ошибать-ся в их истолковании, приписывать себе одни мотивы и скры-вать от самого себя другие, так что такое знание будет ненадеж-ным и недостоверным.
С точки зрения утилитаризма действие будет морально оп-равдано в той мере, в какой оно ведет к возрастанию некоторо-го внеморального блага. Внеморальное благо, таким образом, выступает в качестве критерия для моральной оценки действия -действие будет считаться благим или дурным не само по себе, но только в зависимости от проистекших из него последствий. Этим благом могут быть, например, красота, здоровье, знание, удовольствие, наслаждение и т.п. Поэтому человеческая дея-тельность в таких областях, как искусство, медицина, наука и пр.. хотя бы она и не была направлена на решение собственно моральных проблем, оказывается тем не менее морально зна-чимой и подлежащей моральной оценке.
Следует отметить, что в популярных трактовках смысл термина "утилитаризм" нередко примитивизируется и даже ис-кажается. Утверждают, например, что с утилитаристской точки зрения "цель оправдывает средства", а точнее - позитивные по-следствия позволяют якобы оправдать даже безнравственные по своему замыслу действия, либо что для утилитариста "пра-вильно то, что наиболее полезно". Одна из расхожих формул, используемых для выражения сути утилитаризма, говорит о не-обходимости "обеспечить наибольшее благо для наибольшего числа людей".
Эти утверждения, однако, не раскрывают главного, наибо-лее существенного в позиции утилитаризма. Главное же состоит в том, что в утилитаристской теории признается один-единствен-ный этический принцип - принцип пользы (полезности), который можно сформулировать примерно так: мы всегда должны дейст-вовать таким образом, чтобы достичь наилучшего из возможных соотношений между позитивными и негативными последствиями нашего действия, либо - если последствия при любом варианте будут негативными - наименьшего суммарного вреда. Или други-ми словами: наш выбор оправдан, если выбранный вариант по-рождает больше блага, чем любой из альтернативных.
Сами же правила - это не более чем подсказки, своего рода обобщения, выработанные предшествующим опытом лю-дей и позволяющие им ориентироваться при принятии реше-ний в конкретных ситуациях. Но именно из особенностей кон-кретной ситуации прежде всего и следует исходить при обосно-вании или оценке действий.
Основывающиеся на этом теории (они могут быть, отме-тим, как утилитаристскими, так и деонтологическими) иногда характеризуют как ситуационную этику. В ней отнюдь не пред-полагается (хотя по самому названию термина такое предполо-жение допустимо), что вообще не следует руководствоваться правилами. Правила, с этой точки зрения, обеспечивают под-держание общей морали, но к ним не следует относиться дог-матически: если нарушение, например, правила "не лги" в дан-ном конкретном случае будет способствовать благу пациента, то тем самым - с точки зрения утилитаризма действия и ситуа-ционной этики - оно морально обосновано.
Но то, что полезно для одного человека, вовсе необязательно будет полезным и для другого. В связи с этим было предложено понятие "внутреннего блага" (внутренней пользы) как такого блага, которое признается все-ми, независимо от различий во мнениях и пристрастиях. Это внутреннее благо есть благо само по себе, а не просто средство для достижения какого-либо другого блага. Таким внутренним благом, например, может считаться здоровье или отсутствие боли; тогда внешним благом будут те действия, которые на-правлены на восстановление здоровья или облегчение боли.
Среди теорий внутреннего блага, в свою очередь, различа-ют теории гедонистические (гедонизм - этическая позиция, ут-верждающая, что высшим благом является удовольствие; если это благо считается единственным, а все остальные - подчи-ненными, то такая теория может быть названа монистической) и плюралистические.
Бентам и Милль были гедонистами, по-скольку пользу они всецело сводили к счастью или удовольст-вию. Однако основоположникам утилитаризма не удалось дать удовлетворительного объяснения таким ситуациям, когда люди явно действуют не во имя счастья или удовольствия. Например, ученый, проводящий исследование, может доводить себя до ис-тощения во имя поиска нового знания, хотя, если бы он стре-мился к собственному счастью или удовольствию, он мог бы го-раздо проще достичь желаемого совершенно другими путями.
В связи с этим последующие поколения утилитаристов ста-ли отказываться от монистических концепций пользы во имя плюралистических, признавая внутренним благом, наряду со счастьем или удовольствием, скажем, дружбу, знание, здоровье, красоту и т.д.
Еще одно существенное различение, которое проводится среди утилитаристских теорий, - это различение утилитаризма правил и утилитаризма действий.
С точки зрения утилитаризма правил именно соблюдение правил максимизирует общее благо.
Напротив, с точки зрения утилитаризма действий соблю-дение правил далеко не всегда ведет к максимизации общего блага, то есть к реализации основополагающего принципа пользы.
Мы уже говорили о том, что утилитаристы в целом признают только один принцип - прин-цип пользы - в качестве универсального средства морального обоснования и оценки решений и действий. Но этот принцип, в свою очередь, может использоваться для оправдания и оцен-ки либо общих правил, либо же конкретных действий.
Утилитаризм правил оправдывает конкретные действия, если они соответствуют общим правилам, таким, как "не укра-ди", "не лги" и т.п. Сами же правила обосновываются через принцип пользы.
В целом же утилитаризм, будь то утилитаризм правил или утилитаризм действий, позволяет оправдывать пересмотр са-мих правил. Поскольку высшим критерием для него является принцип пользы, то если, скажем, эмпирическим путем, на ос-нове изучения множества конкретных случаев, когда данное правило нарушалось, будет выяснено, что отказ от него не вле-чет серьезных негативных последствий для общей морали и, сверх того, позволяет максимизировать общее благо - в таком случае в глазах сторонника утилитаризма пересмотр правила будет вполне оправданным.