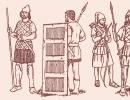Художественная деталь в прозе В.Шукшина. Художественное своеобразие рассказов В.М.Шукшина В чем особенность рассказов шукшина какие художественные
Однако каждый персонаж в изображении Шукшина имел свою “изюминку”, противился усреднению, являл особый образ существования или оказывался одержимым той или иной необычной идеей. Вот как напишет об этом позднее критик Игорь Дедков: “Людское многообразие, живое богатство бытия выражается для В.Шукшина, прежде всего, в многообразии способов жить, способов чувствовать, способов отстаивать свое достоинство и свои права. Уникальность ответа, уникальность реакции человека на призыв и вызов обстоятельств кажутся писателю первейшей ценностью жизни, конечно, с той поправкой, что эта уникальность не аморальна ”.
Шукшин создал целую галерею запоминающихся персонажей, единых в том, что все они демонстрируют разные грани русского национального характера. Этот характер проявляется у Шукшина чаще всего в ситуации драматического конфликта с жизненными обстоятельствами. Шукшинский герой, живущий в деревне и занятый привычной, по-деревенски монотонной работой, не может и не хочет раствориться в сельском быту “без остатка”. Ему страстно хочется хоть ненадолго уйти от обыденности, душа его жаждет праздника, а неспокойный разум взыскует “высшей” правды. Легко заметить, что при внешней непохожести шукшинских “чудиков” на “высоких” героев-интеллектуалов русской классики они, шукшинские “сельские жители”, так же не хотят ограничить жизнь “домашним кругом”, их так же томит мечта о жизни яркой, исполненной смысла. А поэтому их тянет за пределы родной околицы, их воображение занято проблемами отнюдь не районного масштаба (герой рассказа “Микроскоп” приобретает дорогостоящий предмет в надежде найти способ борьбы с микробами; персонаж рассказа “Упорный” строит свой “ перпетуум мобиле”).
Характерная для рассказов Шукшина коллизия - столкновение “городского” и “деревенского” - не столько выявляет социальные противоречия, сколько обнаруживает конфликтные отношения мечты и реальности в жизни “маленького человека”. Исследование этих отношений и составляет содержание многих произведений писателя.
Русский человек в изображении Шукшина - человек ищущий, задающий жизни неожиданные, странные вопросы, любящий удивляться и удивлять. Он не любит иерархию - ту условную житейскую “табель о рангах”, согласно которой есть “знаменитые” герои и есть “скромные” труженики. Противясь этой иерархии, шукшинский герой может быть трогательно-наивным, как в рассказе “Чудик”, невероятным выдумщиком, как в “Миль пардон, мадам!”, или агрессивным спорщиком, как в рассказе “Срезал”. Такие качества, как послушание и смирение, редко присутствуют у персонажей Шукшина. Скорее наоборот: им свойственны упрямство, своеволие, нелюбовь к пресному существованию, противление дистиллированному здравомыслию. Они не могут жить, не “высовываясь”.
Рассказ «Чудик»(1967г.).Много чудных поступков совершает Василий Князев, по прозвищу Чудик, начиная с 50-рублевкой, которую он с «остроумными» словами («Хорошо живете, граждане!»), кладет на прилавок, так как «хозяина нет», и кончая разрисованной детской колясочкой племянника. Рисовал и думал; как будет приятно изумлена сноха, а кончилось все скандалом.
Рассказ «Микроскоп»(1969г.).Еще один «чудик» - Андрей Ерин. Утаив зарплату от жены, стерпев побои, он покупает микроскоп. Рассматривая в микроскоп, каплю воды, обнаруживая в ней кишащих микробов, он радуется как дитя, и мечтает избавить человечество от болезней. Но «мечта» терпит крах от столкновения с бытом: жена едет в город и продает микроскоп, потому что «детям надо купить шубки».
“Срезал” - один из самых ярких и глубоких рассказов Шукшина. Центральным персонажем рассказа Глебом Капустиным владеет “пламенная страсть” - “срезать”, “осаживать” выходцев из деревни, добившихся жизненного успеха в городе. Из предыстории столкновения Глеба с “кандидатом” выясняется, что недавно был повержен приехавший на побывку в деревню полковник, не сумевший вспомнить фамилию генерал- губернатора Москвы 1812 года. На этот раз жертвой Капустина становится филолог, обманутый внешней нелепостью вопросов Глеба, не сумевший понять смысла происходящего. Поначалу вопросы Капустина кажутся гостю смешными, но скоро весь комизм исчезает: для кандидата это настоящий экзамен, а позже столкновение перерастает в словесную дуэль. В рассказе часто встречаются слова “посмеялся”, “усмехнулся”, “расхохотался”. Однако смех в рассказе имеет мало общего с юмором: он то выражает снисходительность горожанина к “странностям” живущих в деревне земляков, то становится проявлением агрессивности, выявляет мстительность, жажду социального реванша, которая владеет разумом Глеба.
Высоким порывам шукшинских героев, увы, не дано реализоваться в жизни, и это придает воспроизведенным ситуациям трагикомическую тональность. Однако ни анекдотические случаи, ни эксцентричное поведение персонажей не мешают писателю разглядеть в них главное - народную жажду справедливости, заботу о человеческом достоинстве, тягу к наполненной смыслом жизни. Шукшинский герой часто не знает, куда себя деть, как и на что использовать собственную душевную “широту”, он мается от собственной бесполезности и бестолковости, он совестится, когда причиняет неудобство близким. Но именно это делает характеры героев живыми и устраняет дистанцию между читателем и персонажем: шукшинский герой безошибочно угадывается как человек “свой”, “нашенский”.
Сигов В.К.
Рассказчик всю жизнь пишет один большой роман. И оценивают его потом. Когда роман дописан и автор умер.
Из рабочих записей Шукшина
В этом году исполнилось 70 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина. И четверть века прошло со времени смерти замечательного писателя, кинорежиссера, актера. Как писатель Шукшин стал известен с 1958 года. За 16 лет им было опубликовано свыше ста рассказов, два романа, повести, киносценарии, произведения для театра, снято шесть фильмов. Он занял общепризнанно значительное место в российской культуре XX века.
Дебютом Шукшина в кино была эпизодическая роль погибающего от шашки Григория Мелехова матроса в фильме С.А. Герасимова «Тихий Дон» по роману М. Шолохова. Односельчане вспоминали, что первое появление земляка на экране почти разочаровало: «Мы увидели Василия в эпизодической роли. Поднялся на локте, выглянул из-за плетня и - упал... Думали: наверно, ничего из него не выйдет». Сегодня эти слова воспринимаются и как метафора: поднялся - выглянул - упал... Короткая жизнь и поразительное ощущение свойскости, узнаваемости героев, проблем, положений, которое возникает у каждого, знакомящегося с творчеством Шукшина даже сегодня, когда социальные реалии изменились разительно. Все-таки уже и в том долгом взгляде Шукшина-матроса было нечто, останавливающее внимание без слов, нечто сжатое, емкое и поражающее затаенной глубиной, знанием, которое будто пытался передать людям умиравший герой. Позже художник называет высшим искусством умение «так сказать, чтоб тебя поняли. Молча поняли и молча же сказали “спасибо”» (6, 413. Здесь и далее тексты Шукшина цитируются по кн.: Шукшин В.М. Собр. соч.: В 6 т. - М., 1998, с указанием тома и страницы).
Не раз отмечались органичность и цельность всех проявлений творческой личности Шукшина. Рассказы составили центральное, важнейшее звено того большого «романа», который В. Шукшин «писал» всеми доступными ему художественными способами. Он вырабатывает «язык», систему образов и понятий, обозначающих стержень художественных размышлений. Стремится «воспитать» читателя, приучить его к мысли, что «настоящая литература рассчитана на неодноразовое прочтение». Именно поэтому Шукшин постепенно «разочаровывается» в кино. Оно, по его ощущениям, вызывает яркое, но не достаточно устойчивое впечатление. Литература способна затронуть наиболее глубокие, сокровенные струны души, обращается к важнейшим вопросам выбора и самоопределения личности в мире. В частной картине талантливый писатель непременно заключает частицу общего. Отдельные рассказы Шукшина образуют некую более значительную художественную целостность. Автор сознательно стремится к этому. И важной задачей анализа является обнаружение внутренних скреп, делающих пестрый мир героев и конфликтов писателя цельным, единым, сопричастным народной жизни во всех ее проявлениях.
Интерес к историческому прошлому в Семке, герое рассказа «Мастер», особенно активно проявился после знакомства с одним писателем, которому он отделывал кабинет под избу XVI века. Тогда «он не пил, читал разные книги про старину, рассматривал старинные иконы, прялки... Этого добра у писателя было навалом». Выходит, что у писателя в одну кучу - «навалом» - свалено интеллектуальное (книги), утилитарное (прялки) и духовное (иконы). Такое отношение «к старине» на уровне декораций и коллекции характеризует государственную позицию в целом, и пожалуй, не только в 60-е годы. Можно признать познавательную ценность «старины» и сохранить некоторые «образцы», но совершенно немыслима поддержка высвобождающейся духовной инициативы. Семке объясняют архитектурную вторичность талицкой церкви. Наивный вопрос Семки: «Ну, допустим - копия. Ну, и что? Красоты-то от этого не убавилось» - остался без ответа. Казенный «интерес» к «гордости русского народа», будь то песня или храм, может проявляться только напоказ. Там, где красота действительно может возродить или хотя бы пробудить души, ее восстанавливать никто не собирается.
В «Мастере» героя приближает к духовному возрождению приоткрывшаяся красота потаенной церкви, а свернул на привычную дорогу он при косвенной «поддержке» церкви «официальной».
История церкви «большой, на возвышении», «явно позднего времени», кратко рассказанная в «Мастере», - это история огосударствленной церкви. Можно сказать, что церковные деятели, в изображении Шукшина, на равных с теми, кому это «положено по должности», вступают в политическую борьбу своего времени. И тем самым ставят духовность под удар хитроумного политиканства. Ввязавшись в мирскую борьбу за власть, не сумев сохранить внутреннего единства на национальной почве, церковь тем самым предопределила свое будущее положение, в котором оказалась волей Петра, по своим качествам для мирской власти наиболее подходящего. Эти противоречия воплощены и в романе Шукшина «Я пришел дать вам волю». Здесь безусловно осуждение Разина со стороны совести и религиозного сознания, но не бесспорно церковное проклятие.
Существует прямая связь рассказа «Крепкий мужик» с рассказом «Мастер» и романом о Разине. Здесь тоже спор разгорается вокруг церкви XVII века. В начале «Мастера» Сёмка «весело лается с бригадиром» - именно колхозный бригадир стал героем «Крепкого мужика». Идея реставрировать церковь приходит в голову Сёмке в воскресенье, в этот же день недели совершает задуманное Шурыгин.
Сёмка Рысь не смог восстановить, а Шурыгин, перешагнув через общие чувства, разрушил символ национальной духовности. «Кто велел-то?», «Прекрати своевольничать», - говорят ему односельчане. В том-то и дело, что своя воля в современных условиях может себя реализовать только в делах разрушения. Наивные надежды на район, центр опровергаются и здесь: Шурыгин-дьявол мчится на заслуженный отдых в райцентр, и в рассказе «Мастер», где герой, попытавшийся воскресить храм, безуспешно прошел ступеньки и рай- и облцентров. Социальный заказ и разрушительные потенции, которые с тревогой замечает в народном характере Шукшин, находят друг друга.
Авторская позиция не ограничивается этой невеселой констатацией. Значительным представляется и рассуждение в «Мастере» о церкви, которую «будто нарочно спрятали от праздного взора». Она всегда готова открыться «тому, кто шел к ней», ждет истинного мастера, который все-таки осуществит мечту Сёмки.
Впрочем, писатель отмечает и действительно развитое в современных условиях «мастерство» - духовной маскировки и подмены. Образ цирка в художественном мире Шукшина-прозаика исполняет метафорические функции «правдоподобной» замены храма, близкой последнему в той же степени, в какой слово «хохот» близко слову «дух», а «цирк» - «церкви». Особенно очевидно это значение образа в рассказе того же, что и «Мастер» и «Крепкий мужик», 1969 года «Чередниченко и цирк». Первоначальное название «Цирк» совершенно определенно указывало центральную метафору произведения. Примета, ставящая этот рассказ в ряд с «Мастером» и некоторыми другими произведениями, - профессия героя. К пятидесяти годам он рассчитывает стать «заместителем директора небольшой мебельной фабрики, где теперь работал плановиком». То есть он «начальник» Сёмки Рыся, Андрея Ерина («Микроскоп»), «коллега» героев «Танцующего Шивы», Матвея Иванова («Я пришел дать вам волю»), Глеба Капустина («Срезал») и т.д.
«Цирк» в этом рассказе полон примет языческой, враждебной христианству арены. В то же время апеллирует к сознанию, не вполне свободному от христианских наслоений, предлагая «альтернативу» традиционному храму, внешне очень его напоминающую. «Культура» силится подменить духовность. Не только некоторое подобие формы церкви важно в цирке-шапито, о котором идет речь в рассказе, - но еще и его принципиальная «неукорененность» в почве, подвижность - «нынче здесь - завтра там», «легкость... необыкновенная». Представление же подобно службе, здесь тоже есть прихожане, в нужный момент дружно хохочущие, и «служители» на арене. Особое место среди них принадлежит «смуглому длинноволосому клоуну с нерусской фамилией». В воскресенье в цирке не одно, а три представления. Этот день, как и положено, полностью отдан служению «альтернативному» «божеству». С библейскими ассоциациями связаны отдельные элементы службы-представления. Как и должно быть у Антихриста, здесь все перевернуто с ног на голову. Библейский пророк Даниил остался живым во рву со львами благодаря помощи ангелов. Цирковой «Даниил», «молодой паренек в красной рубахе, гонял по арене, отгороженной от зрителей высокой клеткой, семь страшных львов, стегал их бичом». Пророк Даниил, как известно, был еще и толкователем снов. В тяжелом сне «в ночь с субботы на воскресенье» Чередниченко посещают картины, заставляющие вспомнить арены Рима времен Нерона, на которых первохристиане приносились в жертву языческим страстям: «Мерещилось черт знает что - маски какие-то, звучала медная музыка циркового оркестрика, рычали львы...» Наконец, в поисках Евы Чередниченко попадает в закрытую для прихожан часть цирка-церкви, предварительно «причастившись»: «Взял в ларьке два стакана красного вина». «Алтарь» анти-церкви поражает героя царящим здесь хаосом: «Чередниченко долго путался под брезентовой крышей в каких-то веревках, ремнях, тросах...»
На фоне созданного в зачине рассказа образа антидуховного капища все последующее воспринимается как закономерное социально-бытовое следствие. «Хлеб» повседневного существования, которое «планирует» для себя Чередниченко, в своих качествах предопределен «зрелищем», идолом нового мира, кроящим души «по образу и подобию своему». «Теневая», «рыночная» нравственность с культом известности, материального успеха, насилия, агрессивности, жестокости, социально-политической демагогии еще только заявляла свои права во времена, когда происходит действие большинства произведений Шукшина, но уже обнаруживала недюжинные способности в подчинении себе душ. Ее власть не знает социально-культурных границ. Все более ненужными, лишними, с точки зрения жрецов «госцирка», становятся традиционные нравственные ценности, совестливость, скромность, доброта. Категории нравственного и безнравственного находятся в творчестве Шукшина под сильнейшим влиянием христианских представлений о добре и зле.
Жизнь напоказ, стремление к образцам, которые посылаются свыше, например, исходят от «главного инженера», стандартный набор благ и атрибутов - это все, что может предложить Чередниченко его убогое воображение. Шукшин проницательно заметил то, на что нацелена «культурно-массовая» политика до сих пор: «Ничто так не пугает и не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов... приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни - и все, баста. И доволен».
Внешняя пестрота маскирует внутреннюю пустоту, убогость и однообразие. Высшие проявления бытия, праздник в этом мире совпадают с тем, что является повседневностью в его «храмах»: это - когда «получается смешно», раздаются аплодисменты. Сам поход в «храм», кино, цирк, театр или на демонстрацию, «маевку» (в современных терминах - на тусовку, стадион и т.п.) - в перевернутом мире - нечастый, как праздник, единственный и обязательный атрибут «духовной» жизни. Другой вопрос, что сделать жизнь сплошным «концертом» решится не каждый, это - удел избранных. Чередниченко потому и устрашился своего порыва, что, восхитившись со стороны, не готов перенести идола в ежедневном соседстве: «Она бы мне там устроила парочку концертов, и тогда - завязывай глаза от стыда и беги на край света». Он нормальный, в меру верующий прихожанин, далекий от площадного экстаза новых «святых» и «юродивых».
Завершается рассказ иносказательным размышлением автора о судьбах родины и будущем пути ее народа: «Огромный пароход "Россия”... Негромко говорили парень с девушкой. “Куда-нибудь бы поплыть... Далеко-далеко! Да?”». «Куда ж нам плыть?..», какие волны предопределят выбор человека, народа, все еще не ясно. Где-то звучит мелодия «Амурских волн». Амур несет воды на восток, пароход отплывает на запад.
Рассказ «Чудик» не случайно стал центром большинства споров о писателе. Здесь сошлись многие идеи и мотивы его творчества. Герой стал подлинным открытием писателя. Проблема произведения объединяет размышления и идеи, характерные для различных периодов творчества. Его герой воплощает мироощущение, душевные свойства и духовные ориентиры (дезориентация - тоже своего рода ориентир), характерные для персонажей многих последующих произведений Шукшина. Он «состоянием души, характером, взглядами выражает то, чем живет с ним вместе его народ». К тому, что «наиболее выразительным образом живет» в Чудике, писатель обращается не впервые и возвращается еще не раз.
В сюжете использованы и события из жизни автора. В незавершенном очерке «Только это не будет экономическая статья» он повествует о случае, подобном тому, что произошел с Чудиком в магазине. Многие детали произведения подчеркивают определенную духовную близость героя и автора. Возможность «передать» герою события из своей жизни, реакцию на них рождает совпадение в главном - характере, эмоциональной окраске непосредственного нравственного отношения к жизни. И скорее всего, не автор наделяет героя пережитым и нажитым, а ощущает, что лучшее в нем (совестливость, чуткость, душевная щепетильность, открытость, незащищенность, ранимость) от них, от земляков. Для писателя несомненны одухотворенность жизни и творческий потенциал человека из народа. Чудаковатость любимых героев Шукшина - это, в соответствии с традицией русской литературы (Достоевский, Лесков, Розанов), форма проявления их духовности, выплеск их светлой души. «Чудики не странные и не чудаки. От обычных людей их отличает разве только то, что талантливы они и красивы. Красивы они тем, что слиты с народной судьбой, отдельно они не живут... Они украшают жизнь» (Советская культура. - 1969. - 18 января).
Это не жертва социальных обстоятельств. Тем не менее конкретные «штрихи» социальной жизни обнаруживают противоречивые возможности для дальнейшего развития (или деградации) типа. Чудик потому и стал наиболее «шукшинским» героем, что в максимальной степени воплотил писательское понимание текущего момента национальной жизни, состояния народного духа, «крайне неудобное положение», в котором оказался традиционный характер. Переходное положение героя очевидно даже в чисто культурно-бытовом плане, особенно если иметь в виду и сюжетно-биографические варианты типа: брат Дмитрий, Н.Н. Князев, Колька Паратов («Жена мужа в Париж провожала...») и др. Пока еще у него нету «микробов» жестокосердия, эгоизма, нетерпимости, карьеризма, снобизма по отношению к «братьям». Но нет и по-настоящему надежного иммунитета к этим и другим порокам. Скоро он их может «открыть» («Микроскоп»), Ни кровь, ни пот, которые исследует Андрей Ерин, этому не помеха. Автоматического самосохранения на одной морали и нравственности ждать было бы наивно. Шукшин считал долгом жизнь положить в этой борьбе.
По рассказам Шукшина рассыпаны многочисленные явные и косвенные «указания» автора искать истинный, сокрытый, сокровенный смысл образов и сюжетов. Отдельный, авторский абзац завершает рассказ «Чудик»: «Звали его Василий Егорович Князев. Было ему тридцать девять лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщиков и собак. В детстве мечтал быть шпионом». Такая своеобразная анкета, «знакомящая» с героем, о душе и жизни которого вроде бы уже «все сказано». Но все ли понято? Рядом со стандартными графами - имя, возраст, профессия - неожиданное сообщение о мечте и любви героя является очередным авторским призывом к дополнительному расследованию «по делу» персонажа. Это реплика в непрекращающемся диалоге «тайного нерасшифрованного бойца» с читателем. Сказать в очередной раз: «Шукшин любит своих героев...» - явно недостаточно. «Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или - не умеют» (6, 411).
Правда, по Шукшину, может идти к людям разными путями. «Неистово» - путь гения, «нетерпеливо» - таланта, «потаенно и неистребимо» несет правду «мыслящий и умный». Все эти пути правды в тех или иных художественных связях и комбинациях представлены в произведениях писателя. Гениальность «неистового» Разина окрасила поиски художника на всем протяжении его пути в искусстве. «Нетерпеливые» Васёка («Стенька Разин»), Сёмка Рысь, Моня Квасов («Упорный») выплескивают в своих экспрессивных контактах с миром яркую талантливость. Неустанно ведется подспудный диалог с читателем на уровне авторского намека, детали, ассоциации, метафоры.
Образ дурачка в интерпретации Шукшина синтетичен. Он не просто представляет еще один вариант, а обобщает все возможные пути и лики правды, подводя их под «общий знаменатель» духовности. «Проверяется» у Шукшина не столько соответствие дурачка «современным нормам и требованиям», сколько способность героя сохранить в себе незамутненно-нравственное, одухотворенное отношение к меняющейся жизни. Не поддаться на соблазны «ума», оборачивающегося хитростью, умелости, ведущей к приспособленчеству («как сыр в масле»), эгоизму и равнодушию. Гениальность в отрыве от духовно-нравственного фундамента оборачивается прежде всего жестокостью, бессердечием. Таким образом устанавливается единство Нравственности и Правды в качестве важнейшего мерила истинности, красоты, жизненности в системе художественных и публицистических «высказываний» Василия Шукшина.
Душа Чудика была потрясена впечатлениями, полученными в незнакомом мире, но у него есть спасение, отдушина. Возвращение домой, казалось бы, дает прежние равновесие и покой. «Послесловие» разрушает красивую иллюзию. Даже «простые» анкетные сведения оказываются многозначимыми. «Земля», деревня вовсе не являются каким-то «заповедником незамутненной нравственности». Здесь идут общие процессы.
Достаточно противоречиво характеризует героя уже его профессия. Он показывает сельчанам «кино». Вспомним, что и сам Шукшин не в шутку искал нравственные оправдания своему уходу из села киноработе. Вспомним и то значение, которое приобретают «зрелища» в безбожном мире, о чем идет речь в рассказе «Чередниченко и цирк», и не только в нем. Чудик, как явствует из рассказа, - плотник, садовод, художник, да и основные крестьянские дела ему, безусловно, ведомы. И вдруг - киномеханик, отпуск в разгар лета и, следовательно, сельской страды. Праздность, нарядность в эту пору осознается как пижонство, от которого шаг до предательства. Этот акцент особенно заметен в рассказе того же 1967 года «Два письма».
Малознакомый мир привлекает героя новизной, он еще не знает, как легко, незаметно и безвозвратно здесь теряется гораздо более ценное, чем деньги. Уже первый эпизод-кадр рассказа (случай в магазине) не только показывает абсолютное бескорыстие героя, совестливость, его тягу к людям, зависимость от их мнения, желание делать добро и нравиться, но и издержки такой зависимости. Чудик с удовольствием слушает, запоминает, позже пытается копировать разговор стоящих впереди «мужчины в шляпе» и «полной женщины с крашеными губами». Это уважаемые «культурные» «городские» люди, и стоят они в социально-иерархическом ряду, по ощущениям героя, выше него. Из их разговора можно понять, что они принадлежат к избранным, служителям «святого искусства», а интонации и суть оценок заставляют вспомнить образ капища, созданный в рассказе «Чередниченко и цирк».
Для самого писателя было важно сохранить и подчеркнуть определенную преемственность в проблематике и характерологии этих рассказов. О «скрепах», общей «крыше», объединяющих вполне самостоятельные произведения, он не забывает никогда. Здесь хотя бы анкетная графа - «возраст» - кое-что подскажет. Чудику в 1967 году 39 лет, Чередниченко через два года - 41.
Спустя шесть лет, в 1973 году, один из вариантов, точек зрения на будущее чудиков в современном мире реализован в рассказе «Штрихи к портрету». В самом начале сообщается фамилия героя - та же, которую узнали в конце «Чудика». Николаю Николаевичу Князеву уже 45 лет. Он еще сохранил внешнее сходство со своим предшественником (невысокий, голубоглазый), но его социальный статус изменился. Живет этот сельский выходец в райгородке, профессия в той же сфере, что и у Чудика, но требующая большей активности. Телемастер не просто «крутит кино», а обеспечивает саму возможность пользоваться усовершенствованным экраном.
В связи с наблюдениями над системой образов рассказа «Чередниченко и цирк» отметим, что «голубой экран» становится своего рода домашним вариантом «цирка-церкви» и занимает подобающее место в красном углу. Это значение «телевизора» подчеркнуто в «Штрихах к портрету» параллелью иконы - телевизоры: икон полно у тетки в смежной комнате, телевизорами заставлена комната Николая Николаевича.
Совпадение в главном сюжетно-композиционной структуры «Чудика» и «Штрихов к портрету», «покадровая» подача материала, общие пространственно-временные приметы позволяют писателю организовать откровенный «диалог» героев-однофамильцев. Николай Николаевич уже вполне поменялся местами со многими из тех, кто Чудику приносит боль и обиду. Женщина-телеграфистка навязывает Чудику безликий стандарт в выражении «чувств», предлагает ему общеупотребительное клише, вместо необычного, но искреннего самовыражения - гражданин Князев сам требует на почте соблюдения строгой формы, исключения личных отношений из общественного обихода. Чудик мечтал «на веранде чай с малиной попивать» - Н. Князев обличает дачника Сильченко за праздность. Братка Чудика Дмитрий страдает, живя с «помешавшейся на ответственных» женой, - герой «Штрихов к портрету» делает жену заложницей своих неуемных амбиций.
Автор размышляет о массовости этого губительного для народной нравственности «переворота»: в одном из эпизодов у Князева было ощущение, что его хотят «перевернуть вниз головой и подержать за ноги». Скорее всего, так болезненно воспринимается возвращение к тому, что еще недавно было нормой.
О том, что «второй» Князев не только продолжение, но уже и антипод «первого», говорят многозначительные детали реалистического и аллегорического характера. Чудик, получив летний отпуск, едет в небольшой город, где его брат живет пока в «частном секторе» - «человек и гражданин» в одной из глав-мизансцен из своего домика в райгородке летом же, в отпуск приезжает в деревню. Чудик встречает идущих на работу сельчан и односложно отвечает на их многочисленные вопросы: «На Урал! На Урал!.. Проветриться надо!» - его продолжение-антипод при всем желании пообщаться смог заговорить лишь с одним из спешащих с работы «колхозников-совхозников», именно с тем, у которого сломался телевизор, остальные вполне «целесообразно» «положили свой кирпичик в грандиозное здание» и устремились к своей порции «духовного общепита», молиться домашнему телеидолу.
Аллегория Шукшина указывает и направление, в котором следует искать немаловажные причины происходящих деформаций народной нравственности и мировосприятия. Многолетняя работа жрецов «госцирка» дает свои результаты. Они видны и на примере Чудика, особенно же открыто проявляют себя в деятельности и теориях энтузиаста и подвижника государственности Н.Н. Князева.
Счастливо найденный Князевым «простой и наглядный» образ холма-пирамиды - целесообразного государства первоисточником имеет горсть земли (родной земли), которую не просто бросает, а отдает, жертвует на общее дело каждый из граждан. Понятие мать - сыра земля в творчестве Шукшина имеет категориально-метафорическое значение. Эта категория важна для всего социально-философского направления, с которым связан Шукшин. «Былинный источник силы от матери - родной земли представляется ныне не для избранных, не для богатырей только, но для всех нас источником исключительно важным и целебным, с той самой волшебной живой водой при возвращении в образ, дух и смысл свой, в свое неизменное назначение... И тот, кто потерял это чувство земного притяжения, кто ведает одну лишь жизнь свою, без неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего - вечного, значит огромную потерял тот радость и муку, счастье и боль глубинного своего существования», - писал В. Распутин (Иркутск с нами // Советская культура. - 1979. - 14 сентября. - С. 6). Мать - сыра земля в произведениях самого Шукшина категория не нейтральная, она либо способна вдохнуть новые силы, либо вызывает чувство неприятия. «Степан приложил горсть земли ко лбу... Уткнулся в землю и стал вдыхать целительный запах. И в голове вдруг прояснилось. И боль вдруг потухла. И даже какая-то далекая забытая радость шевельнулась под сердцем - живой, жив» («Я пришел дать вам волю»). «Мериканец» Баев («Беседы при ясной луне») не любит возиться в земле. «Непротивленец» Макар Жеребцов, тоже явно ушедший от земли, в сердцах обзывает односельчан: «Да пошли вы все!.. Как жили, так и живите - кроты».
Князев начинает рассуждения «о земле» с напоминания о могильных курганах, а завершает образом государств-«суперов», которые «незаметно» возникают на том же месте. Что же должно быть «похоронено» и положено в основание «супера»? Метафорический смысл образа земли в «Штрихах к портрету» свидетельствует об отказе героя от традиционных качеств в пользу «гражданственности». Объясняет новые правила поведения и жизни «телеэкран» как символ средств воздействия на массовое сознание. Сильченко пытается вспомнить те опустошенные, казенные слова, которые не раз оттуда слышал: «Работать, быть честным... защищать Родину».
Исторический аспект метафоры приводит к размышлениям о реальных клочках земли, с обобществлением которых в годы «великого перелома» закладывались социально-экономические основы нового государственного здания. Показательно и то, что образ земляного холма Князев использует лишь для лекционно-пропагандистских выступлений «в широких массах трудящихся». Истинная же его цель и идеал обрисованы в трактате, в его восьми «философских тетрадях». Это государственная пирамида, здание из стекла и бетона, индустриальный, бюрократизированный мир.
Для писателя духовный потенциал изображенного в рассказе «Чудик» героя-типа является непреходяще ценным. Важно, сумеет ли он сохранить связь с родовой, народной традицией нравственного, одухотворенного бытия (Василий Егорович - Василий - царь, Егорий, Георгий-победоносец, хранитель и защитник земли) или произойдет «короткое замыкание» на себя (Николай Николаевич - Николай - «побеждающий народ»), чреватое «высушиванием», рационализацией, денационализацией жизни.
Итогом «супер»-развития в личностном плане стал, с одной стороны, человек, полетавший и хотя и не вполне мягко, но «приземлившийся», а с другой - пробивший «пласты жизни над... головой» и «ушибленный общими вопросами».
Чудик ощущает мертвящее прикосновение новой реальности, но пока еще может «уйти» от нее в привычный мир. Чередниченко спокойно соглашается с навязанным существованием, «находит способы» ужиться с государством и своего не упустить. Даже с одной из «жриц» нового мира связать судьбу не решился. Князев - фигура наиболее драматическая. Он искренне, как свою, принял пропагандировавшуюся идею. С энтузиазмом пытается действительно воплотить в жизнь то, к чему призывают «плановики». Он весь устремлен к общественному благу, вперед и выше. Пробил толщу над головой, если иметь в виду национально-исторические традиции, быт, связи с обычными людьми. И увидел пустоту. Но не понял этого. Не понял, что его порыв в высь на самом деле был падением в преисподнюю «вверх ногами». Но понял, что «верхняя комната», где «пульт управления», - это мистификация, она страшно пуста. В 1972 году Шукшин записал: «Ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи!.. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение - при помощи нашей собственной глупости» (6, 424).
Формальную государственную логику Князев усвоил неплохо. Если на этаже «X» фигуры «перестали поддерживать перекрытие: перекрытие прогнулось», то на следующем этаже «у» «провисло». Не может и не хочет он понять главного, что держится пирамида не «структурой», а «фигурами», за которыми «население этажей», люди. Головой он пробился наверх, где никого, кроме него же, нет. Художественно это реализуется в системе двойников Князева, с которыми он каждый раз больно сталкивается. Как верно заметила С.М. Козлова (Поэтика рассказов В.М. Шукшина. - Барнаул, 1993. - С. 109), такими двойниками являются и гример Сильченко, и молодой коллега Князева по «отрасли народного хозяйства» из главы «О проблеме свободного времени». Создается впечатление, что Князев сталкивается нос к носу с собственными отражениями - все «в шляпах», «галстуках», «с мыслями», из «рембытконторы». «Служитель» «из госцирка» его не понял да и явно не соответствует высоте своего положения, а прорыв в Центр, к источнику, генератору идеи, открывая которую вдохновляется Князев, не состоялся. Он всегда обрывается на «охране». Несанкционированный энтузиазм притормозили председатель сельсовета и милиционер. Да и вряд ли в Центре Князеву удалось бы открыть что-то кроме того, что уже видел «за кулисами» предприимчивый и земной Чередниченко: хаос, пустоту, черную дыру, тартар.
Попытку Князева добраться, прорваться в верхнюю комнату с нижних этажей можно трактовать и как вариант преодоления национального раскола, восстановления единства на основе искренне принятых, официально освященных идей, установок. Результатом могло быть полное искоренение «земли» (не только на поверхности, но и в недрах) и «неба»: «Мы могли бы... асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!», искоренение традиционной вселенной. К счастью для жизни и к несчастью для идеи Князева, его попытка напоминает закрывание неисправной молнии: вверх соединяем, внизу расходится.
Шукшин видит, какие огромные усилия прилагаются для внедрения в массовое сознание «новой идеи», понимает, что части людей удается благополучно преодолеть влияние, «не обратить на него внимания». Народное здравомыслие, «притяжение земли» оказываются сильнее. Но немало и принявших в той или иной форме идею как руководство к действию. Почти всегда это связано с существенными потерями в человеческом плане, обеднением личности, превращением человека в «фигуру», узко направленную функцию. Обитающая наверху черная пустота наладила однонаправленное движение. Плодотворная народная энергия перекачивается в бесплодную политическую «топку».
Возвращение к себе, открытие в собственной душе забытого или заслоненных обстоятельствами жизни возможностей - в этом состоит простая по сути, но сложнейшая для воплощения задача. Этим, по Шукшину, обусловлена и возможность органического развития национальной жизни в изменяющемся мире. Удивительная способность народной духовности проявиться в неожиданных формах и ситуациях становится предметом художественного изображения в рассказе «Алеша Бесконвойный».
Власть времени над человеком ведет, по мнению Шукшина, к суете. Жизнь бесследно смыкается за спиной с каждым прожитым мигом. Усилия, потраченные на то, чтобы продраться сквозь события, остаются безрезультатными, впечатления бесследно тают, цели каждый раз оказываются призраками. «Суета губит». Над героем рассказа время не властно. Но это вовсе не свойство мира, в котором ему посчастливилось жить, или удача судьбы. Право на душевный покой Костя Валиков отстоял в борьбе с настойчивыми требованиями жить по-другому, как все. И обрел он не унылое однообразие. Стремление и умение героя одухотворить каждый миг существования делают его жизнь богатой и по-настоящему полной. Любовь к противоречивому миру, детям, труд, тесно связанный с природой, разумное понимание должного и недопустимого, бережное отношение к духовной стороне бытия - основы его внутреннего мира.
В «Алеше Бесконвойном» вообще не идет речи о религии и «духовных» вопросах. Между тем прозвище Алеши, кроме выражения несколько неопределенного значения иронии, незлобивого подтрунивания над необычным соседом, оттенком смысла, конечно, оживляет народные представления об Алексее Божьем человеке. Сказания о нем были среди наиболее распространенных на Руси. Думается, что и в этом случае герой Шукшина наиболее полно воплотил суждения писателя о глубинном народном отношении к духовно-религиозным вопросам.
Это отношение, вообще, очень русское, а более конкретно говоря, - мужицкое, мужское, чуждое мистицизма и крайностей, здравомысленное. Всякое излишество, перехлест даже в вере, а особенно в ее внешних проявлениях, кажутся ненормальными. Здравый смысл подсказывает, где начинается власть целомудрия и тайны, пределы, где кончается обращенное ко всем и существует направленное внутрь, в себя.
При всех полетах и устремлениях «дух» в прозе Шукшина опирается на ощутимую доминанту национально-исторической «тверди». «Так думал Алеша, а пока он так думал, руки делали», - русская баня в результате получила в живописном рассказе Шукшина значение важной национальной приметы, стала уголком одухотворенного быта.
С другой стороны, это и несколько неожиданно, поскольку баня, тем более «черная», в фольклорно-мифологических представлениях была еще и местом большей активности нечистых сил. В повести «Калина красная» об этом вспоминает Люба Байкалова. Картина Шукшина заставляет вспомнить пушкинское: «Там русский дух... там Русью пахнет!» Как и то, что эмоциональное обобщение поэт делает, перечислив важнейших представителей русского сказочно-мифологического «пантеона», «чистых» и «нечистых». У Шукшина духовность жива, но в некоторой степени вытеснена с ее традиционной территории. Дома высокого духовного настроя Алеши не понимают. На его воспоминания о сочиненном дочкой стишке жена «ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянуло нафталином». «Алеша Бесконвойный» завершается разговором о свиньях, после чего «суббота еще не кончилась, но баня уже кончилась».
Не пренебрегает автор в рассказе и возможностями ассоциативного расширения проблематики. История любви праведником грешницы, Костей Валиковым «Али крепдешиновой», открывает возможность самых широких литературных связей. Праведничество Алеши подчеркивается отчетливой религиозно-литературной реминисценцией: «Загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не замечаешь, что стоишь и улыбаешься». Мотив ангела, являющегося пророку в виде горящего куста, есть и в Библии, и в Коране.
Шукшин изобразил основной национальный тип середины XX века, который весь прошел под знаком его метафоры: «одна нога на берегу, другая в лодке», под знаком непрерывных интенсивных как никогда перемен. Сопротивляющийся переменам и все-таки меняющийся человек, сохраняющий и теряющий важное, является главным героем времени, как и творчества Шукшина.
Народный характер в его изображении в конечном счете выражает тенденцию жизнестроения и творчества, а не распада и деградации. Человек рождается для жизни, русская идея реализуется в народном творчестве, понятом широко, как все проявления духовного начала личности, от строительства храма до подготовки бани.
Свое слово Шукшин выговаривает при помощи сложного комплекса изобразительно-выразительных средств. Краткий анализ нескольких рассказов писателя открывает глубокие внутренние связи его произведений. Фактограф и исследователь, наблюдатель и идеолог едины в художнике. Писатель синтезирует собственную точку зрения в процессе художественного мышления, а не обставляет ее более или менее живописными декорациями. Народность его творчества имеет органическую природу. Автор, заставив читателя мыслить и переживать, преодолевает границу между текстом и реальностью. Жизнь его героев через эмоции и размышления читателя сливается с продолжающимся бытием народа.
Ключевые слова: Василий Шукшин,критика на творчество Василия Шукшина,критика на произведения Василия Шукшина,анализ рассказов Василия Шукшина,скачать критику,скачать анализ,скачать бесплатно,русская литература 20 в.
Цель занятия: ознакомить студентов с биографией писателя, художественными особенностями прозы Шукшина.
Место проведения: аудитория по расписанию.
Вопросы к изучению:
1. Сведения из биографии
2. Изображение жизни русской деревни: глубина и цельность духовного мира русского человека.
ШУКШИН, ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ (1929–1974), русский прозаик, драматург, кинорежиссер, киноактер. Родился 25 июля 1929 в д.Сростки Бийского района Алтайского края в крестьянской семье. С отроческих лет работал в колхозе у себя на родине, затем на производстве в Средней России. В 1949–1952 служил на флоте. По возвращении работал директором вечерней школы в д. Сростки. В 1954 поступил на режиссерский факультет ВГИКа, занимался в мастерской М.Ромма. В годы учебы однокурсниками и друзьями Шукшина были будущие известные режиссеры – А.Тарковский, А.Михалков-Кончаловский и др. Студентом начал сниматься в кино, по окончании института снимал фильмы по собственным сценариям. Кинофильм Живет такой парень получил в 1964 высшую награду Венецианского международного кинофестиваля – «Золотого льва св. Марка». Большой успех имели фильмы Шукшина Ваш сын и брат, Позови меня в даль светлую, Странные люди, Печки-лавочки. Фильм Калина красная был снят Шукшиным по одноименной киноповести, написанной в 1973. Кинематографические заслуги Шукшина отмечены премией им. братьев Васильевых, Государственной премией СССР, Ленинской премией (посмертно).
Героями фильмов Шукшина чаще всего были деревенские люди, по разным причинам оказавшиеся в городе. Тема деревенского человека, вырванного из привычной среды и не нашедшего новой опоры в жизни, стала одной из главных тем рассказов Шукшина. В киноповести Калина красная она приобретает трагическое звучание: утрата жизненных ориентиров ломает судьбу главного героя, бывшего вора и заключенного Егора Прокудина, и приводит его к смерти.
В 1958 в журнале «Смена» был опубликован первый рассказ Шукшина, в 1963 вышел его первый прозаический сборник Сельские жители. При жизни Шукшина вышли также сборники его рассказов Там, вдали (1968), Земляки (1970), Характеры (1973), Беседы при ясной луне (1974). Подготовленный к печати сборник Брат мой был издан уже после смерти автора, в 1975. Всего за свою жизнь Шукшин написал 125 рассказов.
Рассказы Шукшина, тематически относясь к «деревенской прозе», отличались от ее основного потока тем, что внимание автора было сосредоточено не столько на основах народной нравственности, сколько на сложных психологических ситуациях, в которых оказывались герои. Город и притягивал шукшинского героя как центр культурной жизни, и отталкивал своим равнодушием к судьбе отдельного человека. Шукшин ощущал эту ситуацию как личную драму. «Так у меня вышло к сорока годам, – писал он, – что я – не городской до конца, и не деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже – не между двух стульев, а скорее так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде как страшновато...»
Эта сложная психологическая ситуация определяла необычное поведение героев Шукшина, которых он называл «странными людьми», «непутевыми людьми». В сознании читателей и критиков прижилось название «чудик» (по одноименному рассказу, 1967). Именно «чудики» являются главными героями рассказов, объединенных Шукшиным в один из лучших его сборников Характеры. Каждый из героев назван по имени и фамилии – автор словно подчеркивает их абсолютную жизненную достоверность. «Чудики» – Коля Скалкин, выплеснувший чернила на костюм начальника (Ноль-ноль целых), Спиридон Расторгуев, пытающийся добиться любви чужой жены (Сураз) и др. – не вызывают авторского осуждения. В неумении выразить себя, во внешне смешном бунте простого человека Шукшин видел духовное содержание, искаженное бессмысленной действительностью и отсутствием культуры, отчаяние людей, не умеющих противостоять житейской злобе, агрессивности. Именно таким предстает герой рассказа Обида Сашка Ермолаев. При этом Шукшин не идеализировал своих персонажей. В рассказе Срезал он показал деревенского демагога Глеба Капустина, получающего удовольствие от того, что ему удается глупым высказыванием «щелкнуть по носу» умных односельчан. Непротивленец Макар Жеребцов, герой одноименного рассказа, в течение недели учил деревенских людей добру и терпению «с пониманием многомиллионного народа», а по выходным подбивал их пакостить друг другу, объясняя свое поведение тем, что его жизненное предназначение – «в большом масштабе советы-то давать». В современной русской литературе рассказы Шукшина остались неповторимым художественным явлением – оригинальной образностью и живой, естественной в своей простоте стилистикой. В романе Любавины (1965) Шукшин показал историю большой семьи, тесно сплетенную с историей России в 20 в. – в частности, во время Гражданской войны. Обе эти истории предстали исполненными таких драматических коллизий, что публикация второй части романа стала возможна только в период перестройки, в 1987. Не удалась Шукшину и экранизация его романа о Степане Разине Я пришел дать вам волю (1971). Умер Шукшин в станице Клетской Волгоградской обл. 2 октября 1974
Одним из создателей деревенской прозы стал Шукшин. Свое первое произведение, рассказ "Двое на телеге", писатель напечатал в 1958 году. Затем в течение пятнадцати лет литературной деятельности он опубликовал 125 рассказов. В сборник рассказов "Сельские жители" писатель включил цикл "Они с Катуни", в котором с любовью рассказывал о своих земляках и родном крае.
Произведения писателя отличались от того, что писали в рамках деревенской прозы Белов, Распутин, Астафьев, Носов. Шукшин не восторгался природой, не вдавался в долгие рассуждения, не любовался народом и деревенской жизнью. Его короткие рассказы - это эпизоды, выхваченные из жизни, короткие сценки, где драматическое перемежается с комическим.
Герои деревенской прозы Шукшина часто относятся к известному литературному типу "маленького человека". Классики русской литературы - Гоголь, Пушкин, Достоевский - не раз выводили в своих произведениях подобные типажи. Остался актуальным образ и для деревенской прозы. При типичности персонажей герои Шукшина отличаются независимым взглядом на вещи, который чужд был Акакию Акакиевичу Гоголя или станционному смотрителю Пушкина. Мужики сразу чувствуют неискренность, они не готовы подчиняться выдуманным городским ценностям. Самобытные маленькие люди - вот что получилось у Шукшина.
Чудик странен для городских жителей, отношение к нему собственной снохи граничит с ненавистью. При этом необычность, непосредственность Чудика и людей, ему подобных, по глубокому убеждению Шукшина, делает жизнь прекраснее. Автор говорит о таланте и красоте души своих героев-чудиков. Их поступки не всегда согласуются с привычными нам моделями поведения, а ценностные установки удивительны. Он падает на ровном месте, обожает собак, удивляется людской злобе и в детстве хотел стать шпионом.
О людях сибирской деревни рассказ "Сельские жители". Фабула проста: семейство получает письмо от сына с приглашением приехать к нему в гости в столицу. Бабка Маланья, внук Шурка и сосед Лизунов представляют подобную поездку событием поистине эпохальным. В характерах героев просматриваются простодушие, наивность и непосредственность, они раскрываются через диалог о том, как ехать и что взять с собой в дорогу. В этом рассказе мы можем наблюдать мастерство Шукшина в части композиции. Если в "Чудике" речь шла о нетипичном начале, то здесь автор дает открытый финал, благодаря которому читатель сам может достроить и додумать сюжет, дать оценки и подвести итоги.
Несложно заметить, как тщательно писатель относится к построению литературных характеров. Образы при сравнительно небольшом количестве текста глубоки и психологичны. Шукшин пишет о подвиге жизни: даже если в ней ничего примечательного не происходит, каждый новый день прожить одинаково сложно.
Материалом для фильма "Живет такой парень" стал рассказ Шукшина "Гринька Малюгин". В нем молодой шофер совершает подвиг: уводит горящий грузовик в реку, чтобы не взорвались бочки с бензином. Когда к раненому герою в больницу приходит журналистка, Гринька стесняется слов о подвиге, долге, спасении людей. Поразительная скромность персонажа граничит со святостью.
Для всех рассказов Шукшина характерны манера речи персонажей и яркий, богатый стилистически и художественно стиль. Разнообразные оттенки живой разговорной речи в произведениях Шукшина выглядят контрастно по отношению к литературным штампам соцреализма. В рассказах часто встречаются междометия, восклицания, риторические вопросы, маркированная лексика. В результате мы видим естественных, эмоциональных, живых героев.
Автобиографичность многих рассказов Шукшина, его знание сельского быта и проблем придали достоверности бедам, о которых пишет автор. Противопоставление города и деревни, отток молодых людей из села, умирание деревень - все эти проблемы широко освещаются в рассказах Шукшина. Он модифицирует тип маленького человека, вносит новые черты в понятие русского национального характера, в результате чего приобретает известность.
Где брал материал для своих произведений писатель? Везде, там, где живут люди. Какой это материал, какие герои? Тот материал, и те герои, которые редко раньше попадали в сферу искусства. И понадобилось, чтобы явился из глубин народных крупный талант, чтобы с любовью и уважением рассказал о своих земляках простую, строгую правду. А правда эта стала фактом искусства, вызвала любовь и уважение к самому автору. Герой Шукшина оказался не только незнакомым, а отчасти непонятным. Любители "дистиллированной" прозы требовали "красивого героя", требовали, чтобы писатель выдумывал, чтобы не дай бог не растревожить собственную душу. Полярность мнений, резкость оценок возникали, как не странно, именно потому, что герой не выдуман. А когда герой представляет собой реального человека, он не может быть только нравственным или только безнравственным. А когда герой выдуман в угоду кому-то, вот здесь полная безнравственность. Не отсюда ли, от непонимания творческой позиции Шукшина, идут творческие ошибки восприятия его героев. Ведь в его героях поражают непосредственность действия, логическая непредсказуемость поступка: то неожиданно подвиг совершит, то вдруг сбежит из лагеря за три месяца до окончания срока.
Сам Шукшин признавался: "Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естественен. Но у него всегда разумная душа" . Герои писателя действительно импульсивны и крайне естественны. И поступают так они в силу внутренних нравственных понятий, может ими самими еще не осознанных. У них обостренная реакция на унижение человека человеком. Эта реакция приобретает самые различные формы. Ведет иногда к самым неожиданным результатам.
Обожгла боль от измены жены Серегу Безменова, и он отрубил себе два пальца ("Беспалый").
Оскорбил очкарика в магазине хам продавец, и он впервые в жизни напился и попал в вытрезвитель ("А поутру они проснулись…") и т.д. и т.п.
В таких ситуациях герои Шукшина могут даже покончить с собой ("Сураз", "Жена мужа в Париж провожала"). Нет, не выдерживают они оскорблений, унижений, обиды. Обидели Сашку Ермолаева ("Обида"), "несгибаемая" тетя-продавец нахамила. Ну и что? Бывает. Но герой Шукшина не будет терпеть, а будет доказывать, объяснять, прорываться сквозь стенку равнодушия. И… схватится за молоток. Или уйдет из больницы, как это сделал Ванька Тепляшин, как это сделал Шукшин ("Кляуза") . Очень естественная реакция человека совестливого и доброго…
Нет Шукшин не идеализирует своих странных, непутевых героев. Идеализация вообще противоречит искусству писателя. Но в каждом из них он находит то, что близко ему самому. И вот, уже не разобрать, кто там вызывает к человечности - писатель Шукшин или Ванька Тепляшин.
Шукшинский герой, сталкиваясь с "узколобым гориллой", может в отчаянии сам схватиться за молоток, чтобы доказать неправому свою правоту, и сам Шукшин может сказать: "Тут надо сразу бить табуреткой по голове - единственный способ сказать хаму, что он сделал нехорошо" ("Боря"). Это чисто "шукшинская" коллизия, когда правда, совесть, честь не могут доказать, что они - это они. А хаму так легко, так просто укорить совестливого человека. И все чаще, столкновения героев Шукшина становятся драматическими для них. Шукшина многие считали писателем комическим, "шутейным", но с годами все отчетливее обнаруживалась односторонность этого утверждения, как, впрочем, и другого - о "благодушной бесконфликтности" произведений Василия Макаровича. Сюжетные ситуации рассказов Шукшина остроперепетийны. В ходе их развития комедийные положения могут драматизироваться, а в драматических обнаруживается нечто комическое. При укрупненном изображении необычных, исключительных обстоятельств, ситуация предполагает их возможный взрыв, катастрофу, которые разразившись, ломают привычный ход жизни героев. Чаще всего поступки героев определяют сильнейшее стремление к счастью, к утверждению справедливости ("Осенью").
Писал ли Шукшин жестоких и мрачных собственников Любавиных, вольнолюбивого мятежника Степана Разина, стариков и старух, рассказывал ли о разломе сеней, о неизбежном уходе человека и прощании его со всеми земными, ставил ли фильмы о Пашке Когольникове, Иване Расторгуеве, братьях Громовых, Егоре Прокудине, он изображал своих героев на фоне конкретных и обобщенных образов - реки, дороги, бесконечного пространства пашни, родного дома, безвестных могил. Шукшин понимает этот центральный образ всеобъемлющим содержанием, решая кардинальную проблему: что есть человек? В чем суть его бытия на Земле?
Исследование русского национального характера, складывавшегося на протяжении столетий и изменений в нем, связанных с бурными переменами ХХ века, составляет сильную сторону творчества Шукшина.
Земное притяжение и влечение к земле - сильнейшее чувство земледельца. Родившееся вместе с человеком, образное представление о величии и мощи земли, источнике жизни, хранители времени и ушедших с ним поколений в искусстве. Земля - поэтически многозначительный образ в искусстве Шукшина: дом родной, пашня, степь, Родина, мать - сыра земля… Народно - образные ассоциации и восприятия создают цельную систему понятий национальных, исторических и философских: о бесконечности жизни и уходящей в прошлое цели поколений, о Родине, о духовных связях. Всеобъемлющий образ земли - Родины становятся центром тяготения всего содержания творчества Шукшина: основных коллизий, художественных концепций, нравственно - эстетических идеалов и поэтики. Обогащение и обновление, даже усложнение исконных понятий о земле, доме в творчестве Шукшина вполне закономерно. Его мировосприятие, жизненный опыт, обостренное чувство родины, художническая проникновенность, рожденные в новую эпоху жизни народа, обусловили такую своеобразную прозу.
Цели: вызвать интерес к творчеству В.Шукшина, его героям, выявить своеобразие рассказов писателя, развитие речи учащихся, воспитание уважения к простому народу.
Оборудование: портреты Шукшина, фотовыставка с видами села Сростки, родных В. М. Шукшина, выставка книг, кроссворд по творчеству Шукшина.
Словарная работа:
Сказ- 1) Род народно-поэтического сказания, повествования.
2) Литературное произведение, в котором сочетается реальное и сказочное, фантастическое, а повествование ведется от лица рассказчика.
Совесть- чувство нравственной ответственности за свое поведение перед окружающими людьми, обществом.
Стыд- 1) Чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка.
2) Позор, бесчестье.
Тесть- отец жены.
Эпиграф: Мне хочется рассказать об этих странных людях, пример которых учит тому, как жить интересно (В. М. Шукшин)
Ход урока
Слово учителя: «Есть люди, -говорил Шукшин, в городе или селе, которые окружающим кажутся странными. Их зовут «чудаками». А они не странные и не чудаки. От обычных людей их отличают разве только то, что талантливы они и красивы. Красивы они тем, что их судьбы слиты с народной судьбой, отдельно они не живут. Их любят особой любовью за эту их отзывчивость в радости и беде. Они украшают жизнь, ибо с их появлением, где бы ни были, изгоняется скука…
Читается эпиграф урока.
Герои Шукшина не выдуманы, взяты из живой жизни, и про любого из них можно действительно сказать: этот только «нравственный», а другой «безнравственный».В них, как во всяком человеке, «намешано2 разного: хорошего и плохого почти безошибочно отдает свою любовь и симпатию одним героям (как раз тем, что дороги автору) и не принимает позиции других (без сомнения, тех, чьи прообразы были невыносимы Шукшину в жизни)
Отчёт групп по прочитанным рассказам (каждой группе вопросы и произведения для чтения даются заранее)
Слушая отчёты других групп, ответьте на вопросы, которые записаны на доске:
Каково общее впечатление от рассказов? Какой из них показался более интересным? Почему?
Что вам особенно близко и понятно в изображенных людях, ситуациях, конфликтах? Что осталось непонятным?
Какую правду хотел рассказать о жизни Василий Макарович Шукшин?
Вопросы и произведения для 3 групп:
1) Рассказ «Мастер»
Портрет Семки Рысь неприглядный. Но прочитав рассказ, мы все свои симпатии отдаем этому человеку. Чем же взял нас за живое Семка Рысь, какими такими качествами привязал к себе?
Почему Семка решил отреставрировать церковь?
Почему никто не согласился помочь Семке?
Почему Шукшину понадобился эпизод с писателем?
Игорь Александрович говорит Семке, что тоже обманулся, как и он. Обманулся ли Семка? Если да, то в чем?
Почему Семка перестал ходить к талицкой церкви?
Против какого течения «загребал» Семка? Почему его снова «выносит» к ларьку?
Какой литературный жанр напоминает начало рассказа?
2) Рассказ «Волки»
Какое впечатление производят на вас герои рассказа в самом начале? Как вы думаете, почему Иван и его тесть недолюбливают друг друга?
Как раскрываются характеры героев при встрече с волками?
Каким мы видим Ивана в первой и во второй части рассказа? Как меняется его поведение?
Когда и почему Иван Дегтярев терпит поражение?
Какие действия Наума вы считаете самыми подлыми?
Какой смысл имеют слова «совесть», «стыд» в рассказе?
Смелый ли человек Иван Дегтярев?
Почему рассказ называется «Волки»?
Представьте, что вы собираетесь снимать фильм по рассказу. разбейте рассказ на части -эпизоды. Какой из них для вас самый интересный?
3) Рассказ «Обида»
В чем суть происшествия в магазине? Была ли причина для обиды? Как выглядят продавщица Роза, завотделом, покупатели?
Почему Сашке захотелось объясниться с мужчиной в плаще? Разделяете ли вы его позицию?
Какова натура Сашки? Что он за человек?
Зачем в рассказ введен ребенок? Какую роль в тексте играют реплики девочки, что тети и дяди плохие?
Какие художественные детали рассказа раскрывают нравственную атмосферу общества: привычное хамство, неуважение к человеку, благодарность, озлобление, желание заклеймить?
В чем смысл вступительной части рассказа об обидах, благоразумии, деревянных мечтах, об отчаянии? Не прикрывает ли она отношение писателя к типу поведения, изображенному в Сашкиной истории?
Чем интересен писателю Саша Ермолаев? В каких его словах скрыта самохарактеристика, воссоздающая тип мышления и строй чувств?
В центре большинства рассказов Шукшина- оригинальные характеры, несущие в себе яркие приметы жизни, эпохи, их сформировавшей. Характер изображается на фоне узнаваемых черт обыкновенной жизни. Эта повседневность, рисуемая выпукло и точно, убеждает читателя в своей значительности, обнаруживает свой нравственный подтекст. Такова ситуация и характеры в рассказе «Обида».
Писатель, выявляя те или иные социально-психологические признаки и качества характеров, проницательно распознает в обыкновенной жизни важное и сокровенное, например, рассказ «Мастер».
Шукшинский рассказ организует ситуация. Начинается рассказ часто без каких-либо вступительных замечаний. Автор сразу вводит нас в ситуацию.
На страницах многих рассказов Шукшина мы встречаемся с «чудиками». Героями с нестандартным восприятием, необычными поступками. Отсюда возникают нестандартные ситуации, резко отличающиеся от общепринятых. Чаще поступки и действия героев, избранный ими стиль жизни направляет стремление к счастью, к справедливости, духовный поиск.
Язык шукшинских персонажей изобилует просторечными выражениями. Но особенность рассказов Шукшина в том, что авторская речь тесно сплетается с речью персонажей и язык автора тоже разговорный, народный. В них мало описаний. Шукшин очень лаконичен, внимателен к детям, которые помогают в нескольких словах показать характер человека.
Кроссворд по творчеству В.М.Шукшина.(даётся на предыдущем уроке)
Итог урока. Оценивание работ учеников.
Кроссворд «Знатокам Шукшина»
По горизонтали: 2. Объект вдохновения художника Смороди-на. (Рассказ «Пьедестал»). 6. Ее любил, ценил, за нее боролся, ей следовал в своем творчестве В.М. Шукшин. 8. Ценный поделоч-ный материал, запонки из которого предпочел для выхода в гости Петя из одноименного рассказа Шукшина. 9. В фильме «Печки-лавочки» есть эпизод ссоры в купе, где Иван Расторгуев в ответ на наглость и самоуверенность командировочного отвечает мудре-ной грубостью: «П... в штанах! И в шляпе! И в плаще!» 11. Учеб-ное заведение, в котором В.М. Шукшин получил актерское об-разование. 12. Сельскохозяйственная машина, на которой подростком довелось поработать Шукшину (цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова»). 13. От нее спас младенца во время се-нокоса Кузьма Родионов (роман «Любавины»). 18. Скандальный человек типа Сергея Ивановича Кудряшова из рассказа «Психо-пат». 19. Имя одного из братьев Любавиных. 20. Член религиоз-ной секты, к которой ненароком причислил оскорбленного дядю Гришу его племянник (рассказ «Гена Пройдисвет»). 21. Фамилия главного героя рассказа «Ноль-ноль целых». 24. В рассказе «Опе-рация... Пьяных». Он страдает не столько от боли, сколько от сты-да. 25. Шукшин здесь родился и этим гордился. 26. Имя девицы, «очистившей» карманы Витьки Борзенкова (рассказ «Материн-ское сердце»). 30. «Маша-птичница», которая демонстрировала селянам модное платьице с передником по профессии (к/ф. «Жи-вет такой парень»). 31. Впечатляющее размерами название кол-хоза, в котором бригадир Шурыгин разрушил церковь (рассказ «Крепкий мужик»). 32. Способ проявления комического, к кото-рому в своем творчестве нередко прибегал В.М. Шукшин. 33. Рас-сказ Шукшина.
По вертикали: 1. Герой рассказа «Верую!» 3. Село в Горном Алтае (рассказ «Рыжий»). 4. Родное село Шукшина. 5. В перево-де с греческого - это «притворство» сродни сарказму. Она скво-зит в рассказах писателя. 7. Один из видных кинематографистов, на опыте которого Шукшин учился режиссуре. 8. Курортный го-род, где снимались эпизоды кинофильма «Печки-лавочки». 9. Ме-тодологический подход при анализе непосредственного взаимо-действия людей. Характерен для творчества Шукшина. 10. Поэ-тесса, исполнившая роль журналистки в фильме «Живет такой па-рень». 14. Рассказ В.М. Шукшина. 15. В фильме «Калина красная» на него часто переходили старики Байкаловы в своих диалогах. 16. Один из рассказов Шукшина. 17. Предмет одежды, часто упо-минаемый в рассказе «Митька Ермаков». 22. В судорожных при-падках и взвизгиваниях она предрекла беду, поражение (роман «Я пришел дать вам волю»). 23. В просторечии шукшинских геро-ев любимая девушка, возлюбленная. 24. Любимый поэт Шукши-на. 27. Литературный журнал, в котором впервые был опублико-ван рассказ «Осенью». 28. Это не только груз в кадушке селяни-на, но и проявление барского насилия. 29. К нему причаливал и тот эсминец, на котором служил Василий Шукшин.